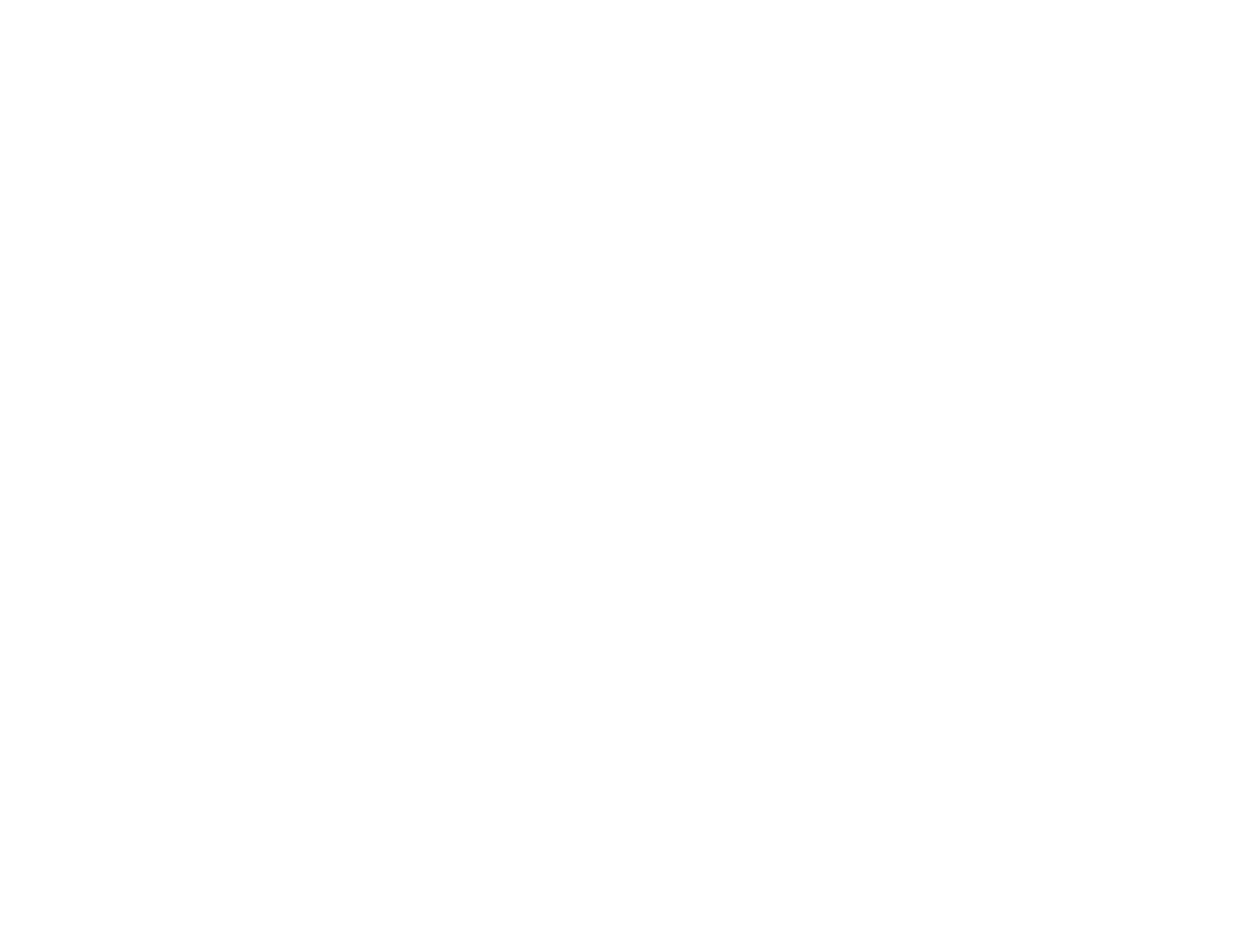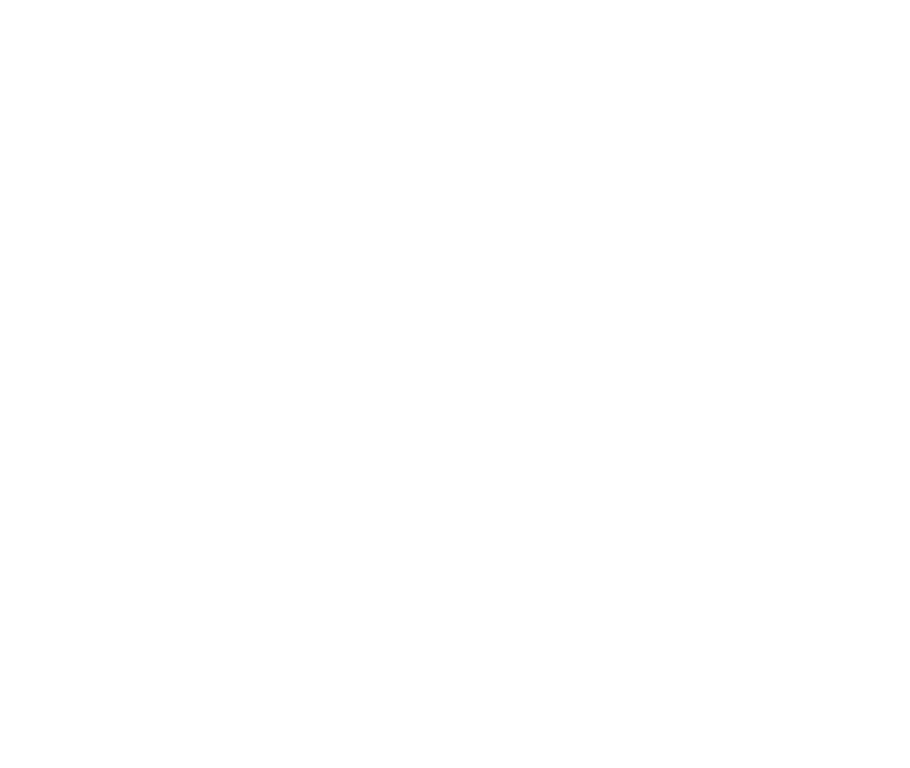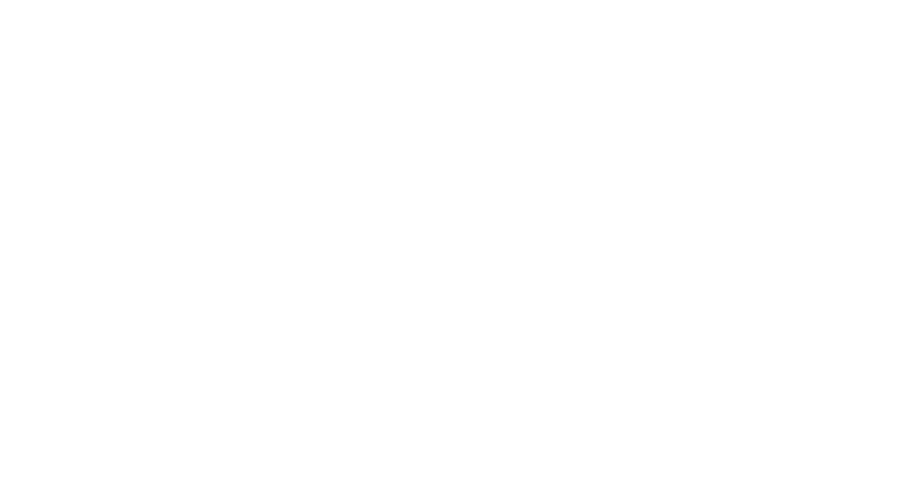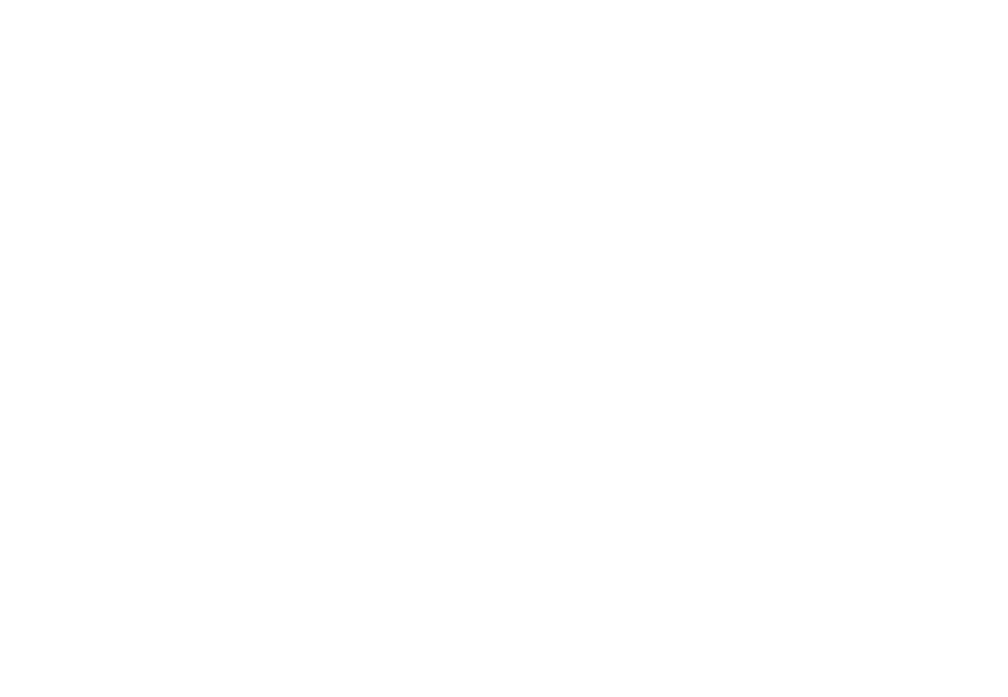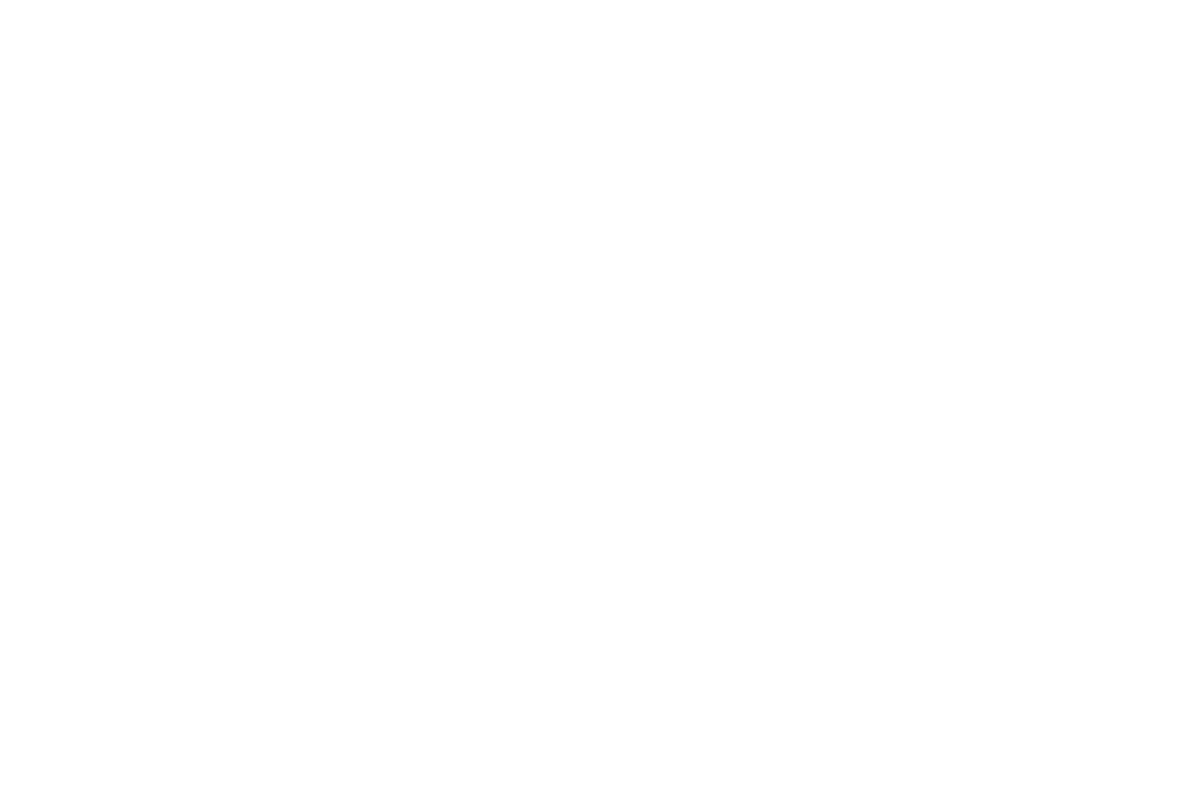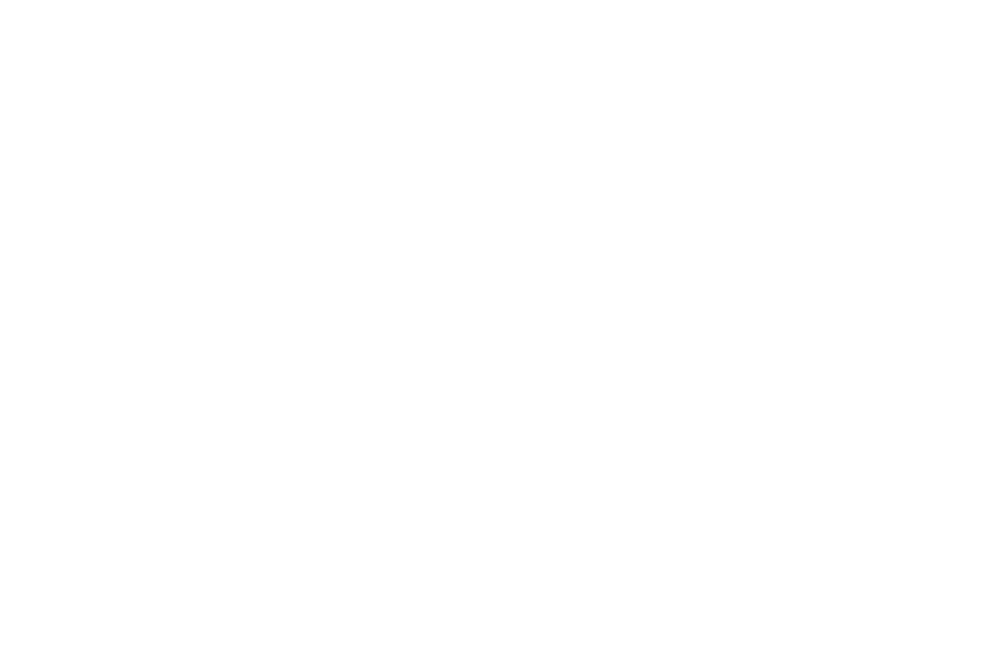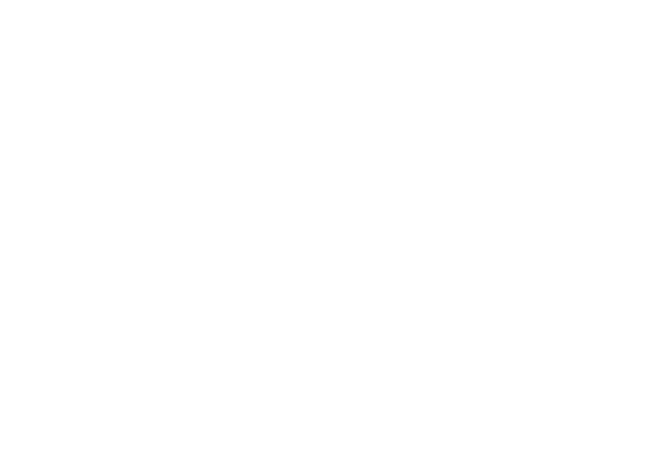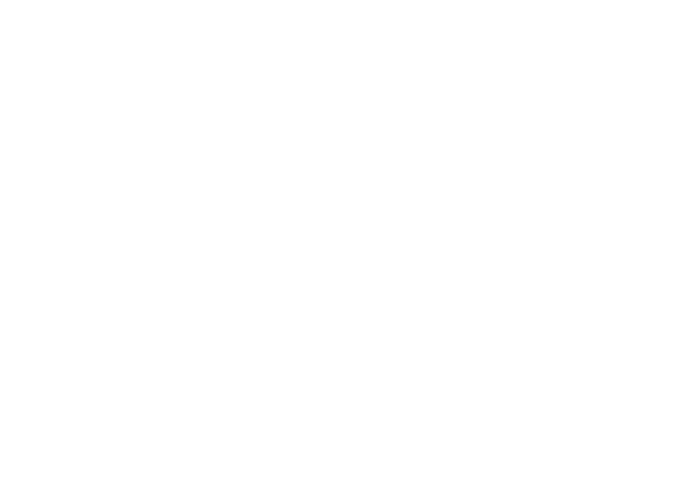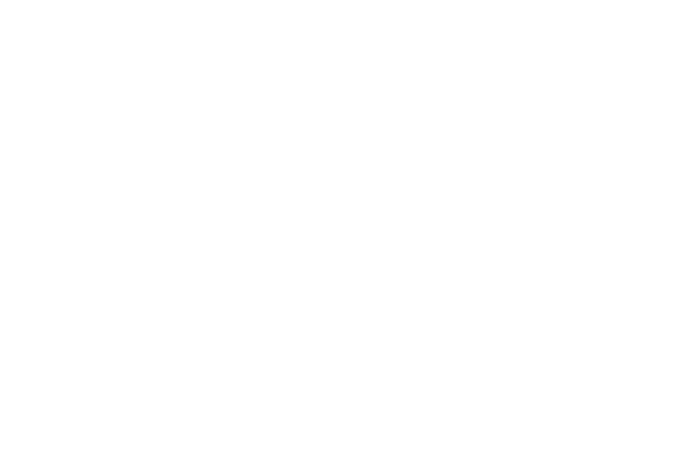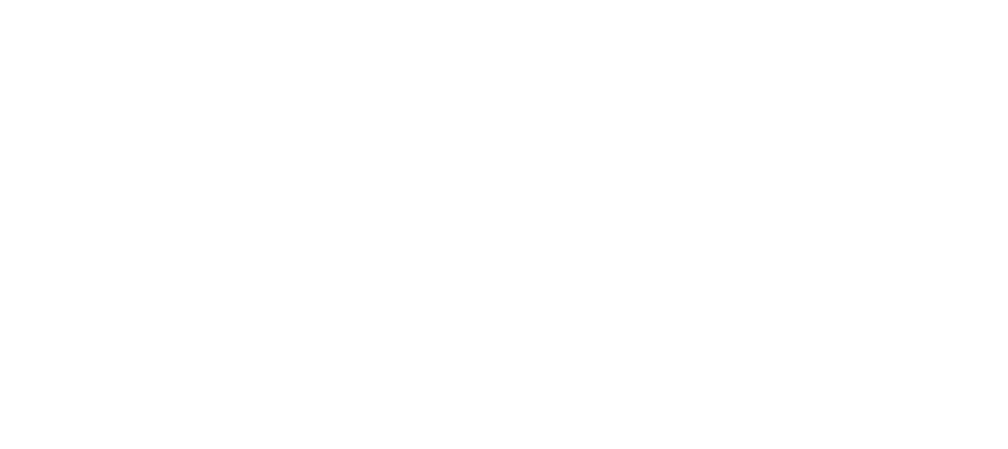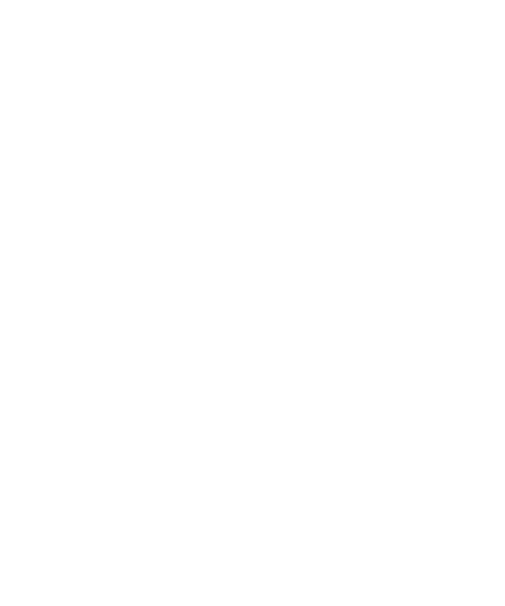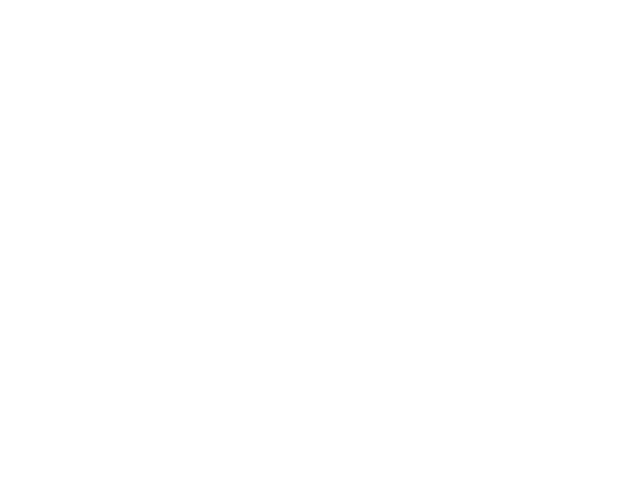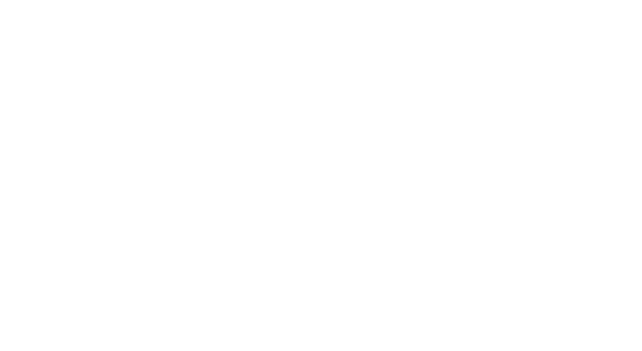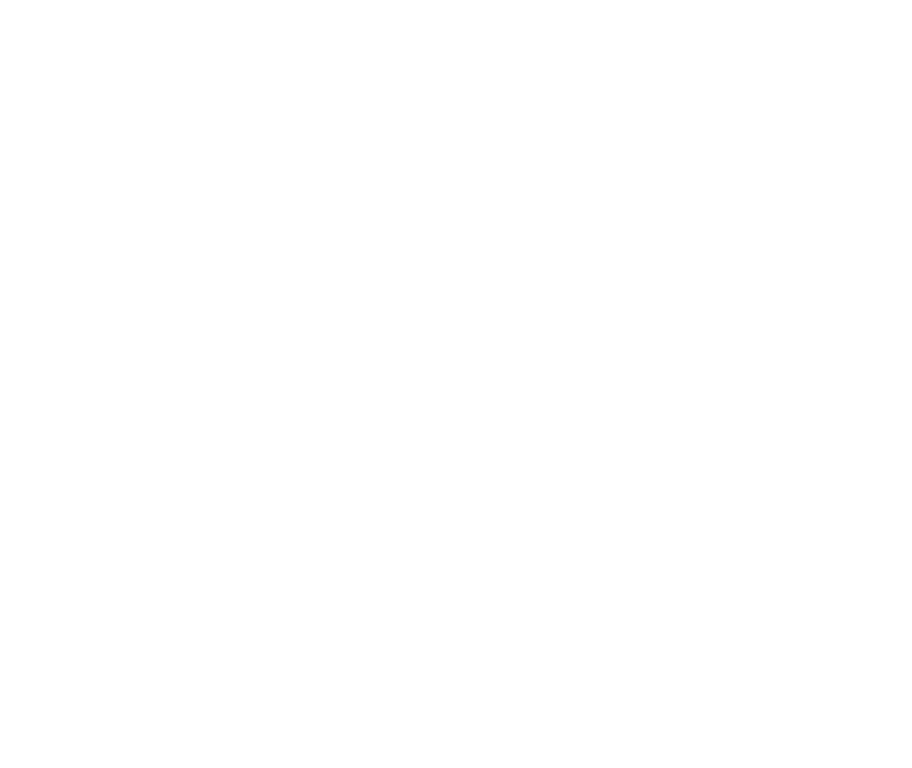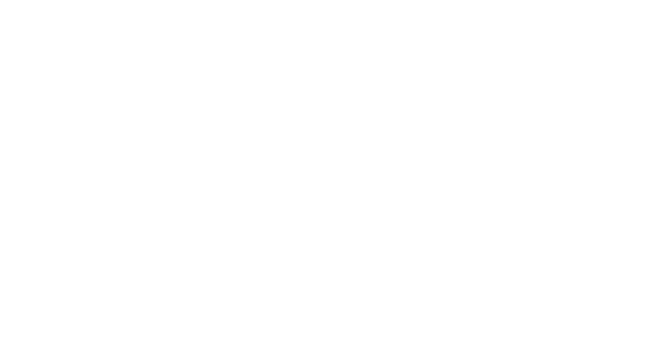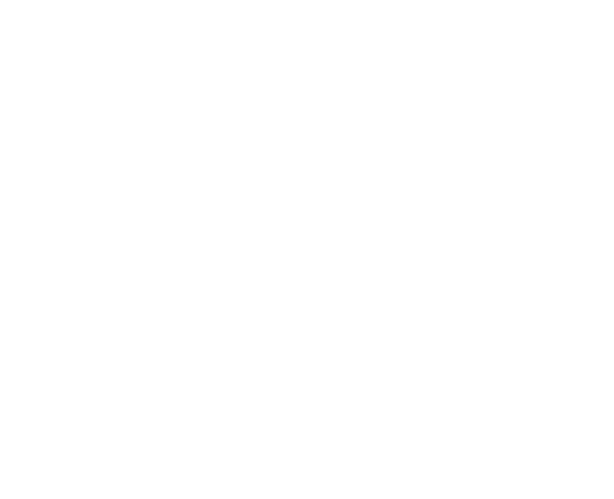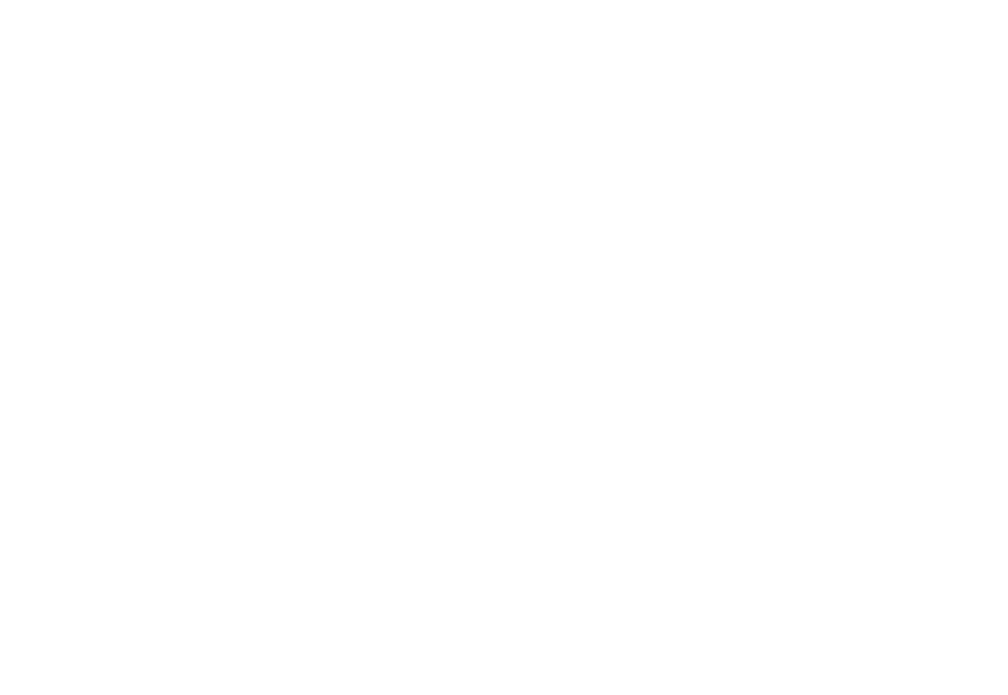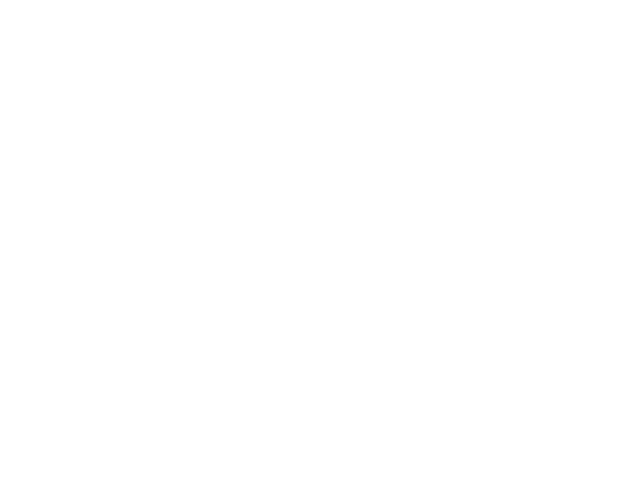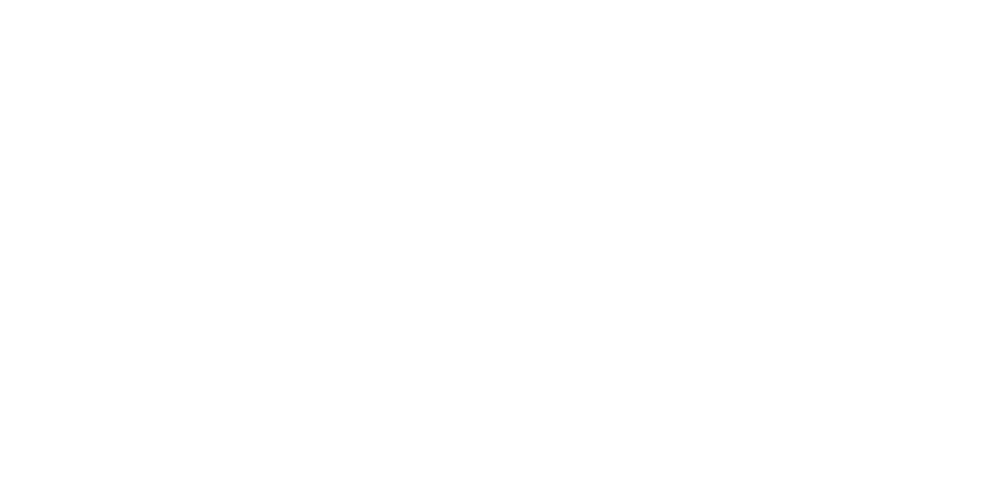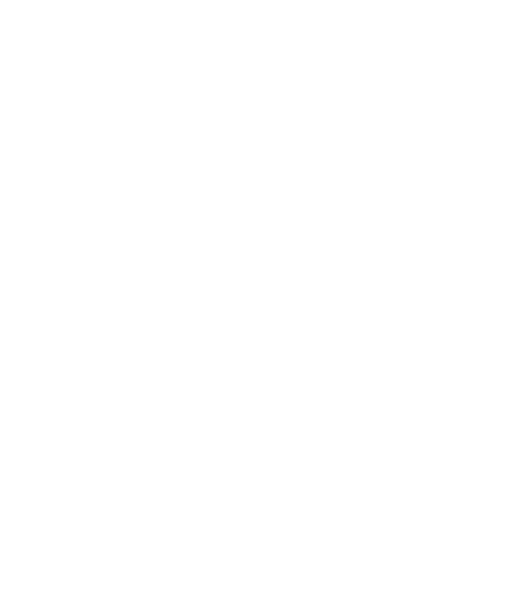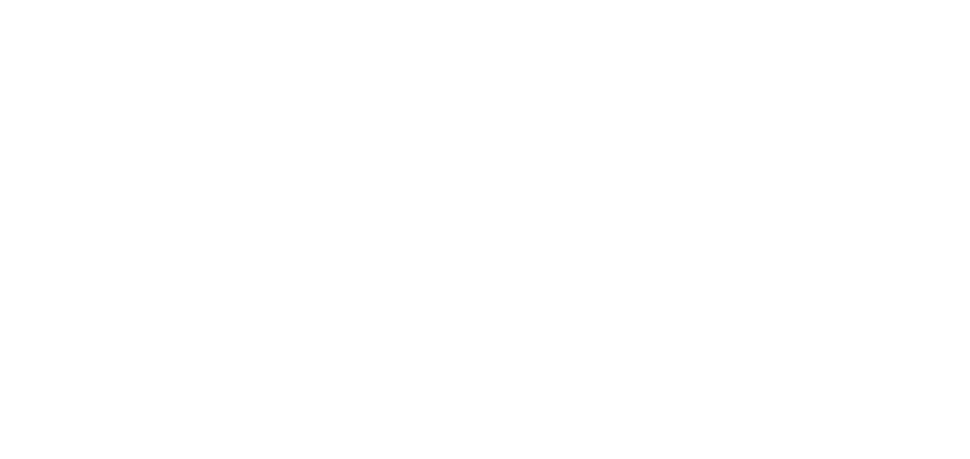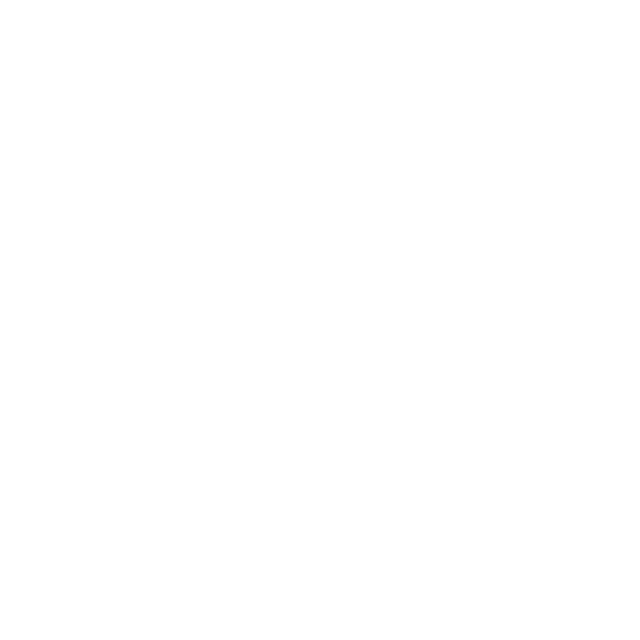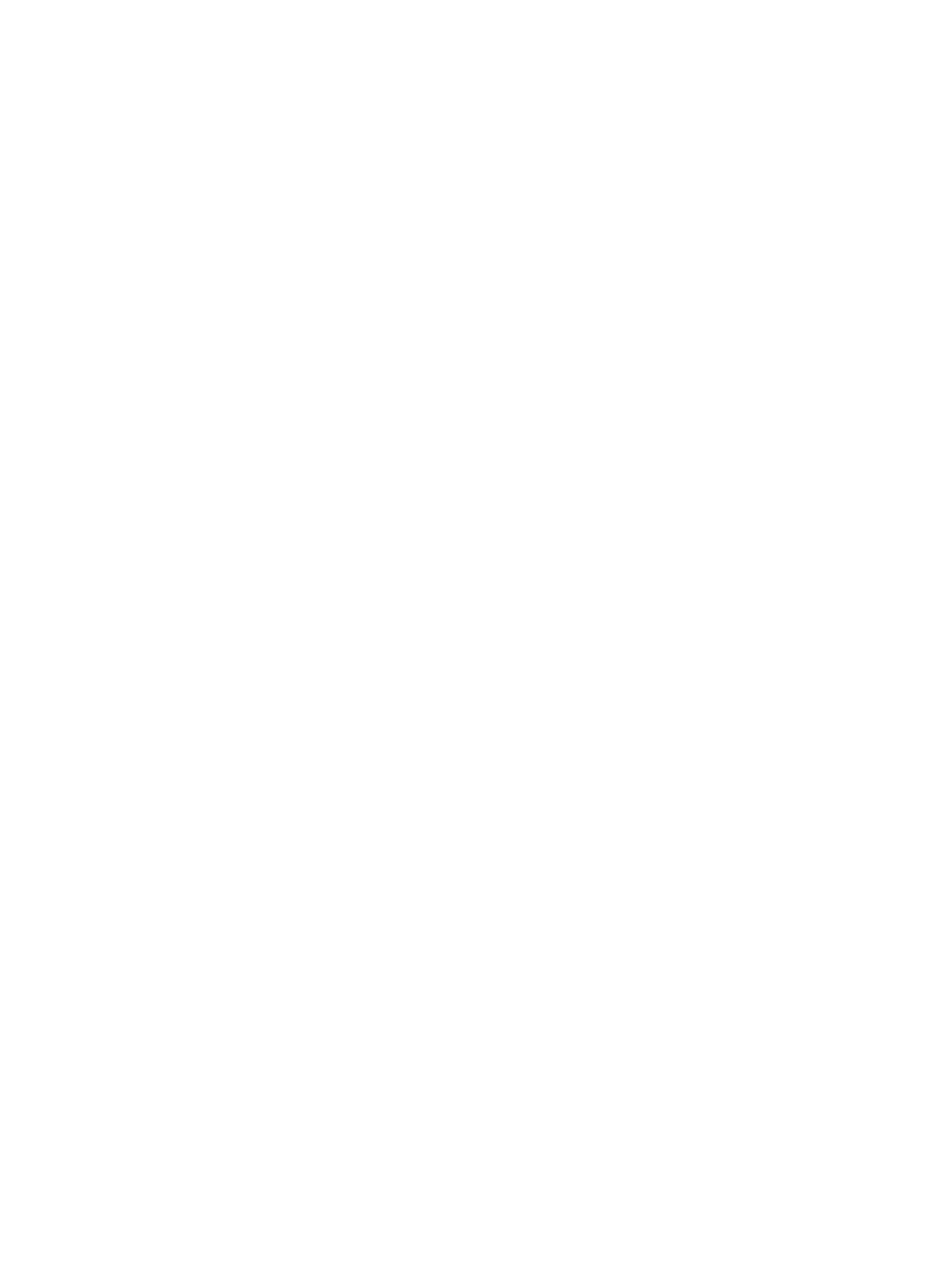в военное время
На фронте и в тылу трудились и сражались сотни тысяч лошадей, собак, кошек, голубей и других братьев наших меньших. Рискуя собственными жизнями, они спасали человеческие, поддерживали боевой дух войск и своей преданностью и самоотверженностью приближали долгожданный День Победы.
Память о подвиге этих удивительных существ должна быть такой же вечной, как память о великом подвиге советского народа.
Вклад животных в Победу - неотъемлемая часть нашей общей истории, которая никогда не должна быть забыта.
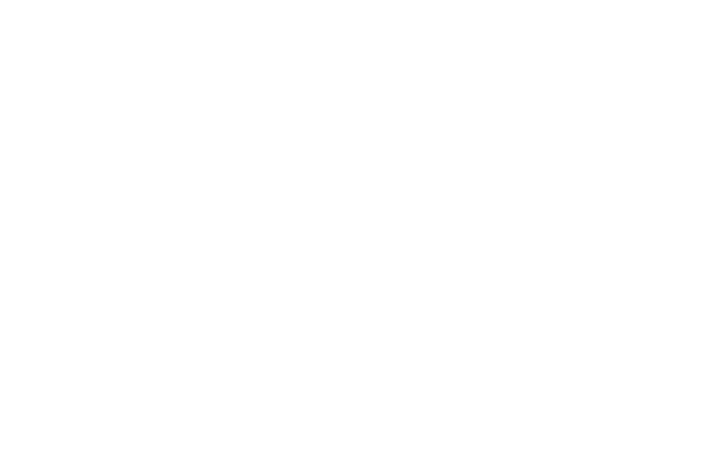
Иногда это косвенная помощь, когда животные благодаря уникальным способностям чувствовать опасность могут предсказать землетрясения, природные катастрофы или изменения погоды. Причём на таком уровне, что современные технологии и близко не могут приблизиться к нему.
Про возможности использовать животных как транспорт там, где до сих пор не пройдёт современная техника, знают жители труднодоступных мест: лошади способствовали великому переселению народов, козы благодаря молоку, шерсти и помёту, используемому как топливо, позволили людям выживать в горах, слоны помогли осваивать джунгли, ну а заменить упряжки собак на Аляске до сих пор невозможно: только они могут пройти в столь сложных условиях, а техника — не может.
Тема животных и медицины, науки неисчерпаема — мало какие открытия произошли бы без помощи «братьев наших меньших».
Исследователи из Торонто успешно выделили инсулин из поджелудочной железы собаки, протестировали его действие, впервые дав надежду людям с сахарным диабетом. Это наиценнейшее открытие не случилось бы без участия наших четвероногих друзей.
Животные могут сами лечить. Современная неврология, психология и психиатрия единогласно признают терапию питомцами эффективной: животные оказывают на человека мощнейшее эмоциональное воздействие, а через это меняют его физиологическое состояние.
Хотя идея использовать домашних питомцев в качестве лекарей совсем не нова (ещё в V веке до н. э. Гиппократ утверждал, что верховая езда ускоряет не только процесс восстановления после ранений, но не менее эффективно помогает и меланхоликам, освобождая их от «тёмных мыслей», вселяя «мысли весёлые и ясные»). Долгие годы этому направлению в медицине не придавали значения.
Животные на протяжении всей истории человечества давно доказали свои уникальные способности приспосабливаться к любым людским прихотям, становясь опорой во всех сферах жизни.
Наиболее ярко влияние животных на ход истории проявляется в дни крупных военных конфликтов. Именно в этих экстремальных ситуациях животные становятся неоценимыми помощниками, от которых зависит исход сражения и жизнь отдельных людей.
Особенно яркие примеры этого влияния мы знаем по истории Великой Отечественной войны.
Настоящими народными героями стали не только лошади и собаки, но и коты, олени, лоси, голуби, медведи и даже верблюды.
Все они стали символами преданности, отваги, дружбы, мира и жизни. Их вклад в победу неоценим.
Цель данного проекта — воздать должное животным-героям и сохранить память о подвиге, который они совершили во имя Великой Победы.
Более двух миллионов животных разделили с людьми горечь потерь и радость побед. Животные были везде: на передовой и в тылу, в окопах и на полях сражений.
Первыми встретили врага пограничники и их верные псы. В июле 41-го в украинском селе Легедзино случилось невероятное — собаки вступили в рукопашный бой с фашистами и заставили их отступить. Такого история ещё не знала!
Спустя годы селяне поставили памятник героям — и людям, и их четвероногим товарищам.
А вот что писал Илья Эренбург, легендарный военкор, публицист и поэт: «Гитлеровцев иногда называют «собаками». А вот передо мной Жучка, мохнатая лайка с добрыми карими глазами. Она спасла немало раненых бойцов. Обладай Жучка даром речи, она наверно сказала бы своему вожатому: «Не зови ты немцев собаками».
Но не только собаки были на передовой. Голуби доставляли секретные послания и подрывали фашистские самолеты.
А верблюды — представьте, более восьми тысяч! — дошли с бойцами до самого логова врага, до Берлина.
В Ахтубинске им поставили памятник — солдату и двум его боевым друзьям, верблюдам Мише и Маше.
Так давайте же помнить о них. О тех, кто, не щадя своих жизней, приближал победу.
О тех, кто был готов отдать всё ради того, чтобы мы сейчас жили под мирным небом.
Они — настоящие герои, и наш долг — никогда не забывать об их подвиге.
В 2015 году в память о животных-героях Великой Отечественной, режиссёр Татьяна Мирошник сняла документальный фильм «Солдаты наши меньшие».
Когда снимала фильм — сердце сжималось от любви и жалости к животным. Сама очень люблю собак и дорожу их преданностью.
Собрала для фильма уникальную хронику и теперь мы можем это видеть.
Я писала сценарий игрового фильма про Дину Волкац, стала изучать материал. В историческом кино без глубокого погружения в тему невозможно.
Собрала много информации и решила сделать документальный фильм.
А игровой фильм, к сожалению, так и не был снят. До сих у меня лежит сценарий, который называет «Дина»…»
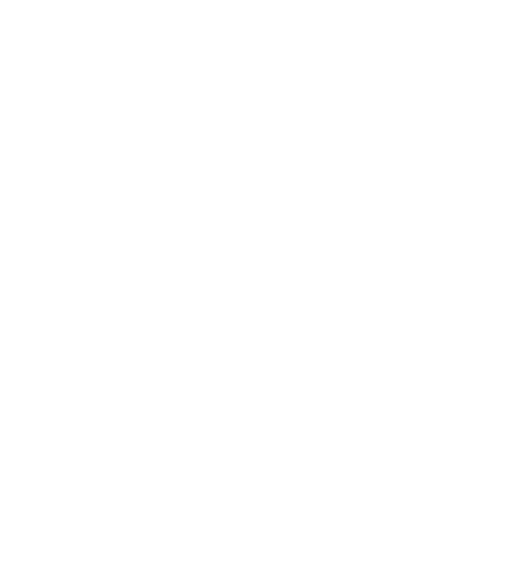
Источник фото: Зоопортал Птичка.ру
Эта отважная собака прошла специальную подготовку и была натренирована для выполнения сложнейших боевых задач.
Дина несла службу в 14-й штурмовой инженерно-сапёрной бригаде, проявила незаурядные способности при прохождении курса истребления танков в Центральной школе военного собаководства. Затем освоила профессию минёра, а после — и диверсанта под руководством старшего лейтенанта Дины Волкац, командира взвода дрессировщиков 37-го инженерного батальона миноискателей.
Обладала поистине уникальным нюхом и способностью быстро адаптироваться к различным условиям. Эти качества позволили ей стать незаменимым бойцом Красной Армии.
Одним из самых ярких подвигов Дины стало её участие в «рельсовой войне» на территории Белоруссии в августе 1943 года. 19 числа отважная овчарка сумела обезвредить немецкий эшелон на перегоне Полоцк-Дрисс. Рискуя жизнью, Дина выскочила на рельсы перед приближающимся составом, сбросила снаряды, зубами выдернула чеку и скрылась в лесу до того, как прогремел взрыв. В результате этой дерзкой операции было уничтожено 10 вагонов противника и серьезно повреждено железнодорожное полотно.
Позже бесстрашная овчарка приняла участие в разминировании Полоцка. В ходе одной из операций Дина обнаружила хитроумно замаскированную мину-«сюрприз», спрятанную врагом в матрасе.
Подвиги этой легендарной собаки навсегда останутся в памяти благодарных потомков.
Дина стала настоящим символом верности долгу, мужества и самоотверженного служения своей стране.
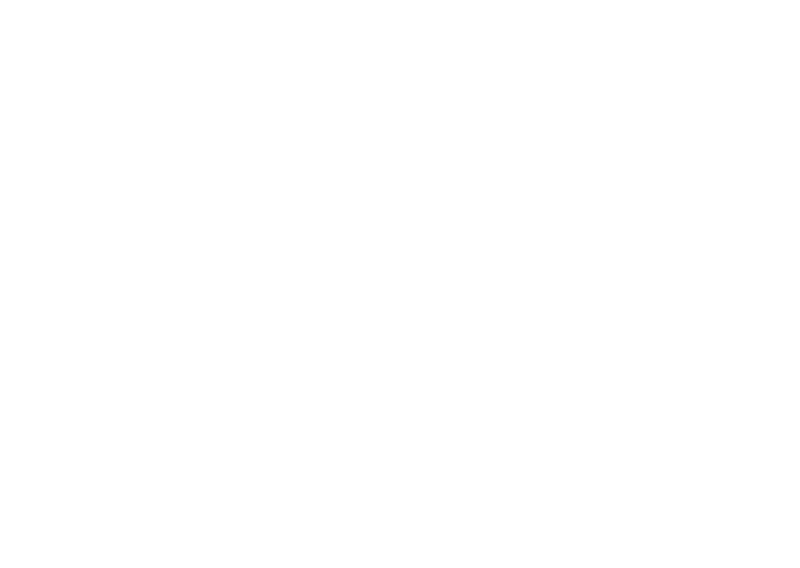
Источник фото: История.РФ
В питомнике «Красная звезда» под Москвой, кинологу Дине Соломоновне Волкац поручили в кратчайший срок подготовить овчарку для минно-розыскной службы. Она выбрала пса по кличке Джульбарс, от которого отказывались другие инструкторы. Вопреки скептицизму начальства, Волкац разглядела в этом «увальне» удивительный потенциал.
Вскоре стало ясно, что Дина Соломоновна не ошиблась. Джульбарс демонстрировал феноменальный нюх, в 2-3 раза превосходящий нормативы.
В 1943 году на воронежском аэродроме, где за две недели подорвалось три бензовоза, хрупкая девушка и её питомец за 7 дней обнаружили все коварные немецкие мины, чего не могли сделать сапёры со щупами в мерзлой земле.
Всего за полтора года службы в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде этот отважный пес помог обезвредить 7486 мин и более 150 снарядов.
География подвигов Джульбарса поистине впечатляет. Он участвовал в разминировании освобожденных территорий Венгрии, Чехословакии, Румынии, Австрии и других стран. Благодаря его чутью и бесстрашию были спасены бесценные исторические здания Будапешта, Вены и Праги.
Джульбарс также обнаружил мины на могиле великого украинского поэта Тараса Шевченко в Каневе и в стенах легендарного Владимирского собора в Киеве.
За свои выдающиеся заслуги перед Родиной 21 марта 1945 года Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги».
А 24 июня того же года легендарный пёс принял участие в историческом Параде Победы на Красной площади. Получив ранения, он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина для отважной овчарки был изготовлен специальный лоток из кителя самого Верховного Главнокомандующего.
На параде Джульбарса с перебинтованными лапами пронес командир 37-го отдельного батальона разминирования подполковник Александр Мазовер.
После войны легендарный пес остался жить у своего кинолога Дина Соломоновны Волкац и даже снялся в советском фильме «Белый Клык» по одноименной повести Джека Лондона.
Но для миллионов людей он навсегда останется символом мужества, верности и самоотверженного служения Отчизне.
Подвиг Джульбарса — это пример доблести и героизма, которым мы, потомки победителей, будем всегда гордиться.

Источник фото: Википедия
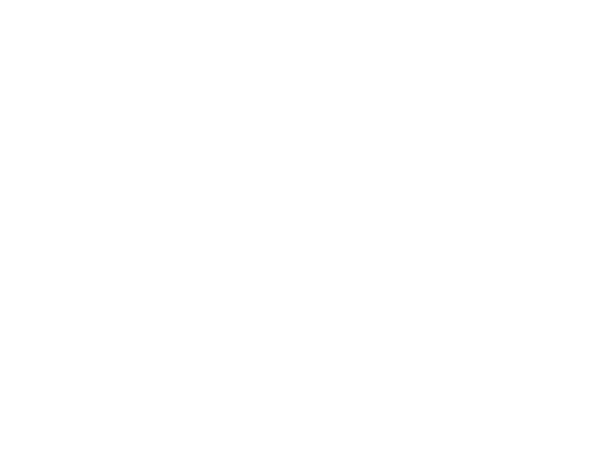
Источник фото: Зоопортал Птичка.ру
За годы службы Дик обнаружил более 12 тысяч мин, участвуя в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов.
Один из самых известных его подвигов — обнаружение в фундаменте Павловского дворца фугаса весом 2,5 тонны с часовым механизмом всего за час до взрыва. Если бы не чуткий нос Дика, взрыв этой бомбы мог бы стереть город Павловск с лица земли, поскольку распределитель от неё вёл к церкви Петра и Павла и плотине.
После войны героический пёс-миноискатель, несмотря на множественные ранения, вернулся к своему хозяину: участвовал в выставках для собак и побеждал на них, дожил до преклонных лет и был похоронен с воинскими почестями, как и подобает настоящему солдату.
Подвиг шотландского колли Дика — яркий пример отваги, верности и самоотверженности братьев наших меньших на войне.
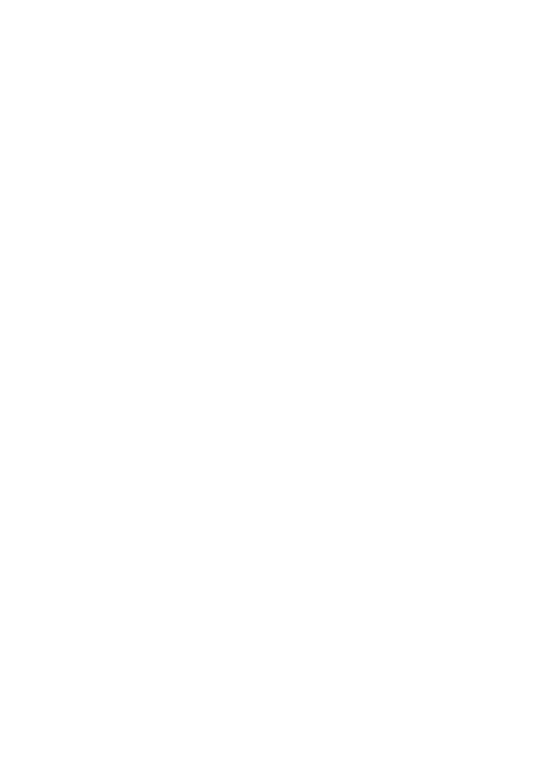
Источник фото: Лен ТВ 24
История Трезора началась в октябре 1941 года, когда Ленинград уже был в кольце блокады. В одном из деревянных домов Парголово, где жили четыре семьи с детьми, у дворовой собаки в миске осталась только вода. Но смышлёный пёс нашёл выход — он стал ежедневно приносить с охоты пойманных зайцев. Мяса хватало, чтобы прокормить всех жильцов дома, включая самого добытчика. Благодаря Трезору все четыре семьи пережили блокаду, в их доме никто не умер от голода.
Охотничьи походы Трезора натолкнули жителей на ещё один способ добычи пропитания — дети стали ходить на заброшенные поля совхозов и выкапывать из-под снега оставшиеся с осени овощи. Женщины научились шить из заячьих шкурок тёплые варежки и меняли их на еду. А на Новый год, 31 декабря 1941, детям даже удалось нарядить елку с настоящими шоколадными конфетами, выменянными на очередного зайца.
Но счастливая история Трезора закончилась трагически. В июне 1945 года, уже после Победы, верный пёс по привычке отправился на охоту и подорвался на мине. Раненый, он сумел добраться до родного двора и умер в окружении любящих хозяев. Люди оплакивали его, как близкого друга, и похоронили во дворе, поставив памятник.
В 1960-х, когда старые дома в Парголово пошли под снос, рабочие обнаружили могилу Трезора с обелиском. Один из бывших жильцов рассказал им удивительную историю пса-спасителя и попросил не застраивать это место, а посадить ель в память о Трезоре и той новогодней ёлке 1941 года.
В память о нём и о его подвиге во Всеволожске у местного Дома культуры установили бронзовый памятник, символизирующий добродетель, милосердие и любовь.
Памятник во Всеволожске и ель в Парголово — это дань памяти и благодарности отважному псу Трезору, который в тяжелейшее время блокады спас 16 ленинградцев от голодной смерти.
Эта история — пример беззаветной любви и преданности собаки человеку. Недаром на памятнике выбиты слова: «Бог создал животных, чтобы отогревать наши холодные сердца».
Трезору посвящена книга Александра Смирнова «Блокадный Трезорка».
1 марта 2024 года на Ленфильме стартовали съёмки короткометражного фильма «Блокадный Трезорка» режиссёра Ильи Северова по мотивам этой книги.
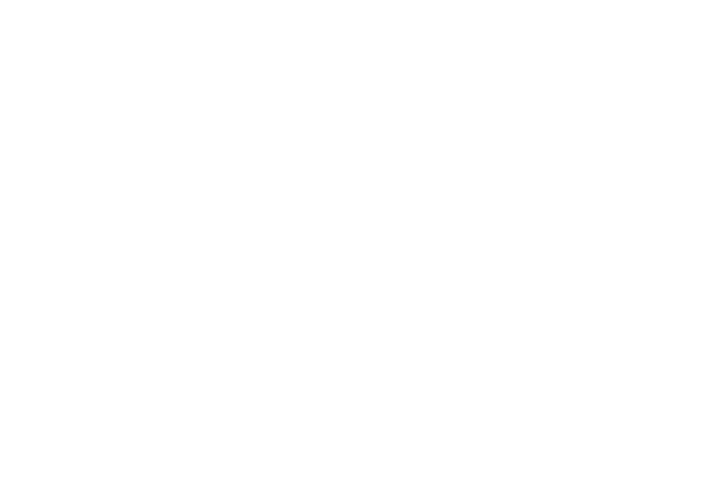
Источник фото: Всеволожский муниципальный район ЛО
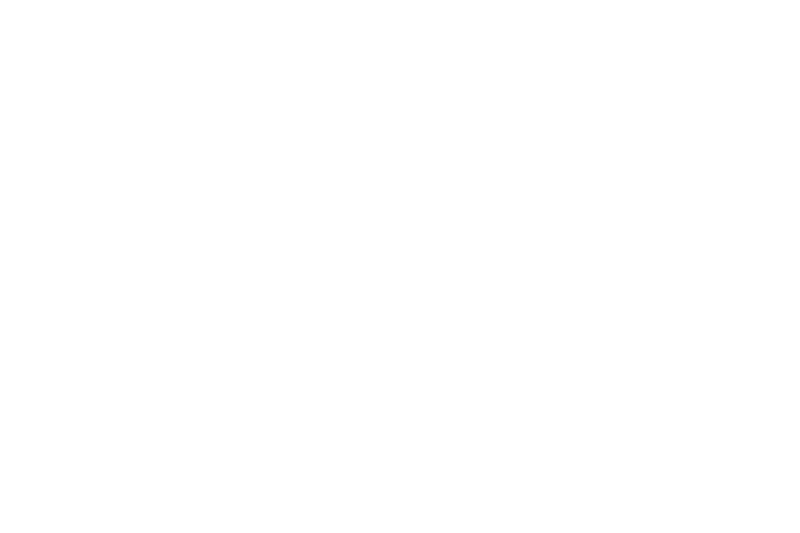
Кошкам блокадного Ленинграда посвящается
Когда бессильны были неотложки,
И жизнь людская падала в цене.
От смерти нас порой спасали кошки
Хоть ничего не смыслили в войне.
Не понимая сущности бомбёжки
И птиц стальных, разивших наповал,
На страже дома оставались кошки
Когда хозяев их глотал подвал.
Когда ж кончались мёрзлые картошки
И еле тлел отчаявшийся взгляд
Все девять жизней отдавали кошки.
Хотя, вообще-то, кошек не едят...
Мы их привыкли видеть на обложке
Календаря как «кича» элемент.
А мне сдаётся, заслужили кошки
Хотя бы очень скромный монумент.
Автор стихотворения не известенКошки — удивительные создания, сочетающие в себе гордость и достоинство с теплом и уютом. Во времена Великой Отечественной войны они часто становились талисманами военных подразделений или просто любимцами, напоминавшими солдатам о родном доме.
Кошки помогали очищать окопы и землянки от крыс и мышей, защищая тем самым провизию.
Благодаря своему острому слуху, эти животные нередко предупреждали людей о надвигающейся опасности, заслышав гул самолетов задолго до их появления.
Если гуси спасали Рим, то усатые — блокадный Ленинград. Блокада Ленинграда унесла жизни полутора миллионов человек, большинство из которых погибли от голода.
Та же участь ждала и домашних питомцев — собак и кошек. Однако, даже умирая от голода, кошки помогали выжить своим хозяевам, оказавшимся в блокадном кольце.
Некоторые кошки, несмотря на собственный голод, продолжали помогать людям, принося домой пойманных птиц, мышей и крыс.
В то время кошки были на вес золота — их цена могла достигать 500 рублей. Животных моментально разбирали с улиц, и даже если семье удавалось сохранить жизнь своему питомцу, нередки были случаи воровства кошек соседями.
Когда в городе появились полчища крыс, которые нападали на людей, блокировали движение трамваев и сгубили сотни картин в Эрмитаже, было принято решение, доставить из Ярославской области четыре вагона «мяукающей» дивизии.
Позже, как только блокада была снята окончательно, из Тюмени доставили ещё одну партию крысоловов. Тогда-то местные жители выдохнули, а усатые «прописались» в Эрмитаже на постоянной основе. Потомки этих крысоловов до сих пор живут там.
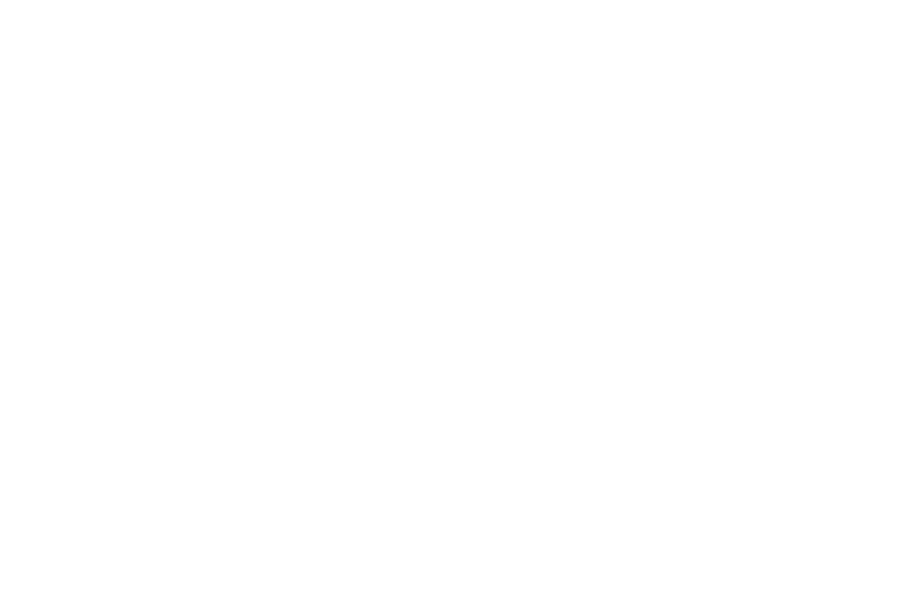
Источник фото: Александр Снитовский
Они официально входят в штат музея и трудятся на ставке специалиста по очистке музейных подвалов от крыс. Зарплату мохнатые получают в евро, если быть точнее, около трёх тысяч в месяц.
Говорят, что богатыми наследниками они стали лишь недавно, благодаря какому-то французскому меценату, который оставил деньги хвостатым обитателям.
Отличить их можно по пятнистой окраске и взгляду. Местные сотрудники говорят, что он у них более брутальный, главные картины страны всё-таки охраняют.
Это сейчас там популярен кот Ахилл, у которого больше 20 тысяч подписчиков. Его ещё называют оракулом или предсказателем матчей.
А во времена Великой Отечественной войны все только и говорили про пушистых героев блокады — Василису и Елисея.
История великой крысиной борьбы, когда животные буквально спасали людей от грызунов, не могла остаться в стороне.
Василиса и Елисей — дань уважения всем котам того времени, которые спасали не только Эрмитаж, но и весь город.
В сентябре 1941 года Ленинград ещё был обеспечен необходимым продовольствием, хотя его запасы и не были слишком велики. Но ситуация кардинально изменилась после массированных фашистских авианалётов, уничтоживших большую часть припасов.
В Ленинграде начался голод. Но нехватка пропитания оказалась не единственной бедой.
Настоящей катастрофой стало нашествие полчищ крыс. Раньше грызуны питались пищевыми отходами, но теперь, когда люди экономили каждую крошку, им стало нечего есть.
В какой-то момент обнаглевшие грызуны стали нападать даже на живых, но ослабевших от голода людей.
Единственными защитниками от крыс могли стать кошки и собаки, но их в городе почти не осталось — большинство погибло от голода или было съедено в начале войны. Поэтому, в 1943 году, Ленсовет принял решение «выписать» из Ярославской области стратегический груз — 4 вагона дымчатых кошек-крысоловов.
Для более эффективной борьбы с крысами кошек распределяли по ключевым объектам инфраструктуры.
Но хотя грызунов стало заметно меньше, окончательно решить проблему не удалось. Поэтому сразу после снятия блокады была проведена еще одна «кошачья мобилизация» — на этот раз животных везли с Урала и Сибири. В общей сложности в Ленинград прибыло около 5 тысяч кошек.
В этот раз их помощь особенно требовалась Эрмитажу и другим музеям для защиты бесценных произведений искусства от крысиных набегов. Усатые защитники с честью справились с задачей, уберегли сокровища Эрмитажа от уничтожения грызунами.
Именно в память о тех событиях и в честь отважных котов 25 января 2000 года на Малой Садовой и была установлена 33-сантиметровая, весом в 25 килограммов, фигурка кота Елисея.
Этот подарок городу сделал известный петербургский предприниматель Илья Ботка.
Он же поддержал идею историка Сергея Лебедева создать напротив Елисея его подругу Василису.
Оба проекта воплотили в жизнь скульптор-анималист Владимир Петровичев и архитектор Лариса Домрачева.
Петербуржцы считают, что если кинуть монетку, и она упадет рядом с котом или кошкой — можно поймать удачу «за хвост».
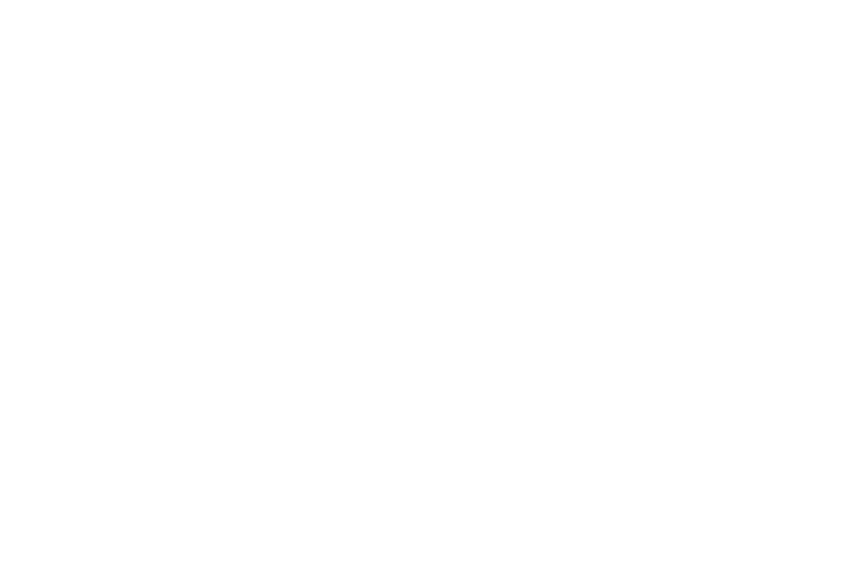
Эрмитаж в блокадном Ленинграде
Источник фото: Александр Снитовский
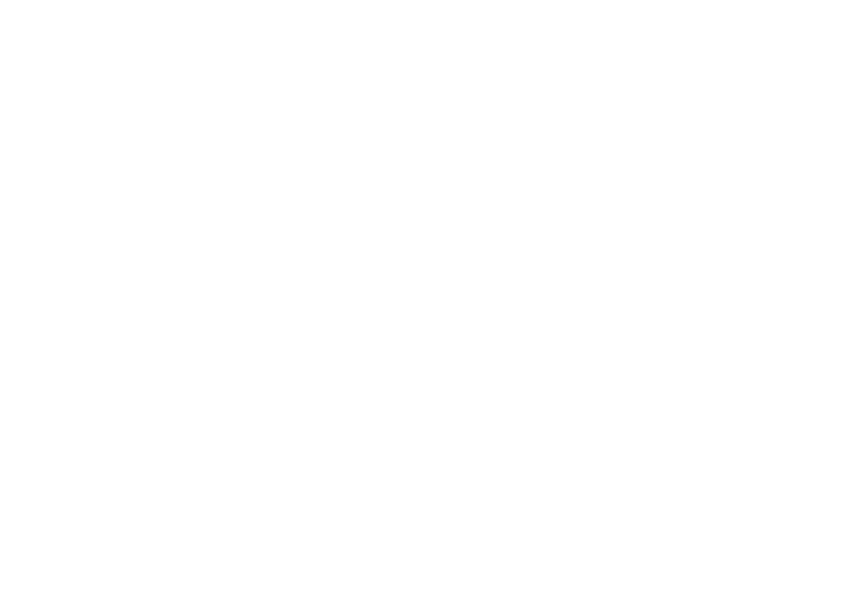
Летом 1941 года глава семейства ушёл на фронт, оставив дома жену и дочь. Когда начался жесточайший голод, для семьи Бугровых даже не возникал вопрос о судьбе любимого кота Васьки. Они очень привязались к нему, любили. И он неожиданно отблагодарил их за привязанность и любовь.
В декабре 1941-го Васька принес свою первую добычу — маленькую мышку, затем ещё одну. Из них сварили скромную похлёбку.
Это занятие стало регулярным — в удачные дни кот приносил с охоты жирных крыс, из которых хватало на суп и дополнительное блюдо. При этом Васька смиренно ждал за столом, когда ему дадут его долю, а ночью согревал своим теплом хозяев, ложась с ними под одно одеяло.
Весной, когда прилетели птицы, хозяйка и Василий стали охотиться на них вместе. Бугрова-старшая отвлекала, а измождённый, но ловкий кот одним прыжком ловил добычу. Своих сил удержать птицу у ослабленного Васьки не хватало, поэтому хозяйка ему помогала.
К лету 1942 года ленинградцы начали получать продукты по карточкам, а нормы хлеба увеличились. Самое страшное время осталось позади.
Благодаря Ваське, семья Бугровых была спасена от голодной смерти.
После войны они боготворили кота-спасителя, считая его полноценным членом семьи и угощая лучшими кусочками со стола.
Василий прожил до 1949 года. Его похоронили на кладбище, поставив памятник с надписью «Василий Бугров».
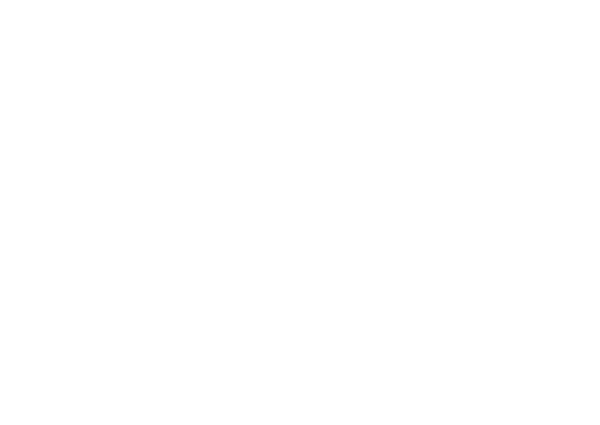
Источник фото: Моя кошачья банда
Чтобы выжить, ленинградцы были вынуждены пожертвовать жизнями своих питомцев, употребляя их в пищу. Тем не менее, были и счастливые исключения, такие как кот Максим.
Максим остался одним из немногих котов, переживших блокадное время в доме, где жило около 100 семей.
До начала Великой Отечественной войны в квартире маленькой Веры Вологдиной жили кот Максим и говорящий попугай Жак.
Общительный Жак постоянно разговаривал и пел, не умолкая ни на минуту. Однако с наступлением голодного блокадного времени попугай затих, и почти все его перья выпали.
Чтобы спасти любимого питомца, мама Веры пошла на отчаянный шаг — она обменяла дорогое импортное ружье отца на рынке всего лишь на стакан семечек.
В то время цены на «чёрном рынке» были просто заоблачными. Но каждый день они выдавали Жаку по нескольку жизненно важных для него семечек.
В их квартире также проживал родной дядя Веры, который настойчиво предлагал съесть кота Максима, чтобы хоть как-то утолить голод. Однако девочка с мамой были категорически против этого.
Однажды Вологдины, вернувшись домой, застали удивительную картину: голодный Максим пробрался в клетку к ободранному Жаку, но не тронул его, а лишь свернулся калачиком рядом.
Кот и попугай мирно спали в обнимку, согревая друг друга теплом своих тел. После этого трогательного случая дядя больше не поднимал вопрос о том, чтобы съесть Максима.
К сожалению, вскоре попугая Жака не стало. Но кот Максим, ставший чудом выжившим символом блокадного Ленинграда, прожил до 1957 года.
В 1943 году, когда блокада была частично прорвана и жизнь в городе начала налаживаться, в квартиру Вологдиных на Малую Подъяческую улицу стали приходить экскурсии целыми классами.
Ребята хотели своими глазами увидеть легендарного кота. Ведь даже дети знают истинную цену дружбы и преданности, особенно в тяжелейшие времена.
Максиму посвящено трогательное стихотворение Елены Заостровцевой «Блокадный кот»:
БЛОКАДА… Слово жуткое какое…
Костлявый ад и голод в нём слышны.
Будь проклят тот, кто это всё устроил,
Народу жить хотелось по-простому:
Чтоб без смертей, без крови… без войны!
Мой муж, майор, едва успел собраться —
Уже машина ждёт его внизу.
Девчонкам от отца не оторваться…
А младшенькая положила зайца:
«Чтоб не скучал! Далёко повезут!»
А я — поверишь, Таня, — ни слезины!
Как истукан, застыла у окна.
К груди прижала кошака, Максима,
И затвердела. Стала как машина.
Война, ну что поделаешь, — война!
Потом с эвакуацией тянули,
Потом — уже под Гатчиной бои…
Завод живёт: нужны снаряды, пули!
И лето, осень — мигом промелькнули…
Ох, бедные девчоночки мои!
Они ведь, Танька, знаешь — ленинградки!
В чём держится душа… А в дом войдёшь:
— «Ну, как дела?» — «Всё, мамочка, в порядке!
Вот: я для Даши сделала тетрадки,
Играли в школу…» А в ручонках — дрожь.
Мне, Таня, на заводе легче было:
Похлёбку выдавали на обед.
Там не до мыслей горьких да унылых,
Ты механизм, животное, кобыла,
И адская работа — словно бред…
Мне наша повариха, тётя Маша,
В горсть крошек набирала… А потом
Бежишь домой: как там мои бедняжки?
Заварят крошки кипяточком в чашке —
И завсегда поделятся с котом.
Так вот, Танюшка… Про кота, Максима.
На целый дом — а в доме сто квартир
(Жильцов-то меньше) — из котов один он.
Других поели… Это — объяснимо,
Быть может, коль с ума сошёл весь мир.
Соседка Галка всё пилила, сучка:
«Ты дура! Ведь по дому ходит зверь!
Глянь на девчонок! Будто спички — ручки!
Помог бы им сейчас мясной-то супчик…»
А я — крючок покрепче вбила в дверь.
Но становилось горше… Холоднее…
Не спрячешься, коль в дом стучится смерть!
А старшенькая месяц как болеет
И, забываясь, шепчет: поскорее…
Я больше, мама, не могу терпеть…
Что тут со мною сделалось — не знаю.
На кухню я метнулась за ножом.
Ведь я же баба, в сущности, не злая,
А словно бес вселился… Как могла я?!
Взяла кота: Максимушка, пойдём!
Он, несмышлёный, ластится, мурлычет.
Спустились мы к помойке во дворе.
Как жуткий сон всё вспоминаю нынче,
А ведь кому-то это, Тань, привычно —
Скотину резать в супчик детворе.
Спустила с рук… Бежал бы ты, котишка,
Уж я бы за тобой не погналась…
И вдруг гляжу — а он не кот! Мальчишка…
«Голодный бред»?! Ну это, Танька, слишком!
Ещё скажи похлеще: напилась!
Трезва, в своём уме… А мальчик — вот он.
Косая чёлка, грустный взгляд такой…
В рубашечке, на голове пилотка…
Запомнились сапожки отчего-то:
Оранжевые, новые — зимой!
Он словно понимал. И не спасался.
Не убегал. Пощады не просил.
Прищурюсь — кот. Глаза открою — мальчик.
… я, Танька, пореву. Что было дальше —
Рассказывать без слёз не хватит сил!
Ох, как я нож-то, дура, запустила!
За дровяник! В сугроб! Чтоб сгнил навек!
Как я Максимку на руки схватила,
Ревела как! Прощения просила!
Как будто он не кот, а человек!
Не чуя ног, домой взлетела птицей
(Ползёшь, бывало, вверх по полчаса),
Котишка крепко в воротник вцепился,
И слышу — что-то без меня творится:
В квартире смех, чужие голоса!
И старшая выходит — в синем платье,
Причёсана: мол, гости! Принимай!
Вот, прямо с фронта — лейтенант Арапов,
Привёз посылку и письмо от папы.
Я, мам, пойду на кухню — ставить чай!
Как будто не болела… Что за чудо?!
… Посылка эта нас тогда спасла.
Как выжили мы, говорить не буду,
Да и сама ты знаешь: было трудно…
Но Женька в школу осенью пошла!
Там хлеба с чаем малышне давали,
Кусочек невеликий, граммов сто.
Весной в саду пришкольном лук сажали…
…А Галку-то, соседку, расстреляли.
Но только, Тань, я не скажу, за что.
Дорога Жизни стала нам спасеньем:
Все нормы сразу выросли! К тому ж
К нам, демобилизован по раненью,
И аккурат ко Дню Освобожденья
В сорок четвёртом возвратился муж.
А кот что учудил! — к его шинели
Прилип — смогли насилу оторвать!
Сергей мне прошептал: спасибо, Неля…
Войны осталось — без году неделя,
А впятером нам легче воевать!
… Вот девять лет прошло — а я всё помню.
Котишка наш, представь, уже седой —
Но крысолов отменный, безусловно!
А по весне устраивает войны
И кошек… это… прям как молодой!
А вот и он! Явился, полосатый!
Матёрый зверь — ведь довелось ему
Всех пережить — тех нЕлюдей усатых,
Которые — век не прощу проклятых! —
Устроили блокаду и войну.
Да не мяучь, как маленький котёнок!
Опять Максиму не даёшь поспать.
Ну что, доволен? — разбудил ребёнка!
Танюш, подай-ка мне вон те пелёнки…
Родить решилась, дура, в тридцать пять!..
г. Ленинград, май 1953 года
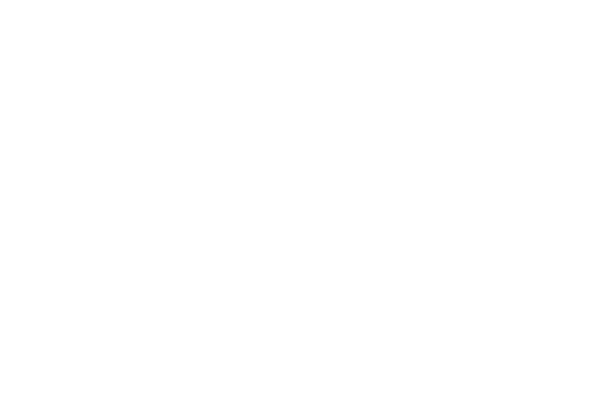
Источник фото: Культурология.ру
Снова и снова развеиваем догадки и твёрдо заявляем, что «мохнатые ангелы» тогда, в непростое время, спасли тысячи жизней. Собаки, кошки, голуби — были! Лошадьми тоже никого не удивишь.
А что насчёт верблюдов? Казалось бы, что эти животные малопригодны. Ну, а что? Бегают медленно, устают быстро, плавать не умеют, нападать тоже.
Но именно они считались секретным оружием: верблюды активно принимали участие в Великой Отечественной войне, защищали нашу Родину и, к сожалению, погибали на полях сражений.
«Горбатый транспорт» месяц может обходиться без еды и неделю без воды, так ещё и способен перевозить большой груз — пулеметы, миномёты.
А еще верблюдов использовали в тыловых подразделениях.
Всего за войну было мобилизовано около 7000 верблюдов из Казахстана и Туркмении.
В 1942 в период Сталинградской битвы лошади и автомобили были в сильнейшем дефиците. А перемещать грузы и боеприпасы было всё также необходимо. Поэтому было принято решение призвать на помощь верблюдов.
Помощников завозили из советской Средней Азии.
Двугорбые верблюды — сильные, крупные, максимально выносливые и неприхотливые. Хорошо переносят низкие температуры.
Другим вьючным животным, мулам и лошадям, верблюды смело давали значительную фору.
Чтобы перевезти одно артиллерийское орудие с позиции на позицию, требовалось как минимум три пары лошадей. С такой же задачей легко справлялось всего четыре верблюда.
Эти животные без проблем подвозили из тыла на передовую тяжёлые ящики со снарядами.
После Сталинграда верблюдов стали активно использовать, как отличный военный транспорт, проверенный и зарекомендовавший себя.
Было сформировано необычное «верблюжье подразделение» и введено в состав 1-ой гвардейской армии. Все двугорбые числились бойцами тыловых армейских частей.
«Корабли пустыни» были заняты транспортировкой обозов, пушек, повозок с провизией и боеприпасами, а также полевых армейских кухонь.
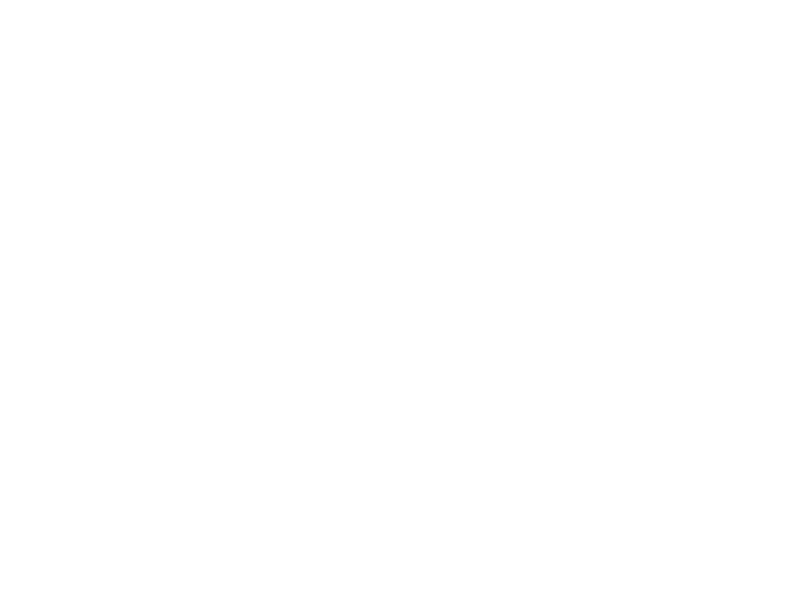
Источник фото: Письма о Ташкенте
Полковник Яновский, начальник тыла, собрал почти тысячу животных.
Местные пастухи обучили бойцов правильному обращению с верблюдами, и дело пошло.
Поначалу солдаты скептически отнеслись к «горбатому батальону», но вскоре оценили их по достоинству.
Самыми известными верблюдами-героями были Миша и Маша. Эта парочка стала настоящей легендой. Забрали их из Астраханской области. Как и полагается, Мишка был парнем большим и невозмутимым, а Машка — своенравная дама с непростым характером.
Именно они из тысячи животных не просто выжили, но и дотащили 76-миллиметровую пушку ЗиС-3 до Берлина. По дороге немцы расстреляли колонну и перебили почти всех животных, но Мишке и Машке удалось уцелеть.
Вместе с сержантом Нестеровым они прошли Днепр, Бухарест, Восточную Пруссию и дошли до логова противников.
Эти горбатые храбрецы провезли более трех тысяч километров, на минуточку, без еды и воды, и доставили в гитлеровский Рейхстаг орудия расчета.
Говорят, что именно это орудие и дало первый выстрел по тому самому знаменитому зданию. А потом говорят, что Мишка и Машка, на это здание ещё и плюнули.
Насколько это правда, неизвестно, но народ верит. Более того, восхищённый смелостью мэр Ахтубинска, даже памятник горбатым воздвиг.
А после войны животных отправили на заслуженную пенсию — в Московский зоопарк.
И снова про памятник. Спустя много лет, 8 мая 2010 года, в Ахтубинске этим героям решили установить композицию из трех фигур — бойца Красной Армии (Нестерова) и 2-х верблюдов.
Памятник назвали просто и лаконично: «Мы победили!».
Но и это ещё не все герои. В этом деле фигурируют и другие смельчаки.
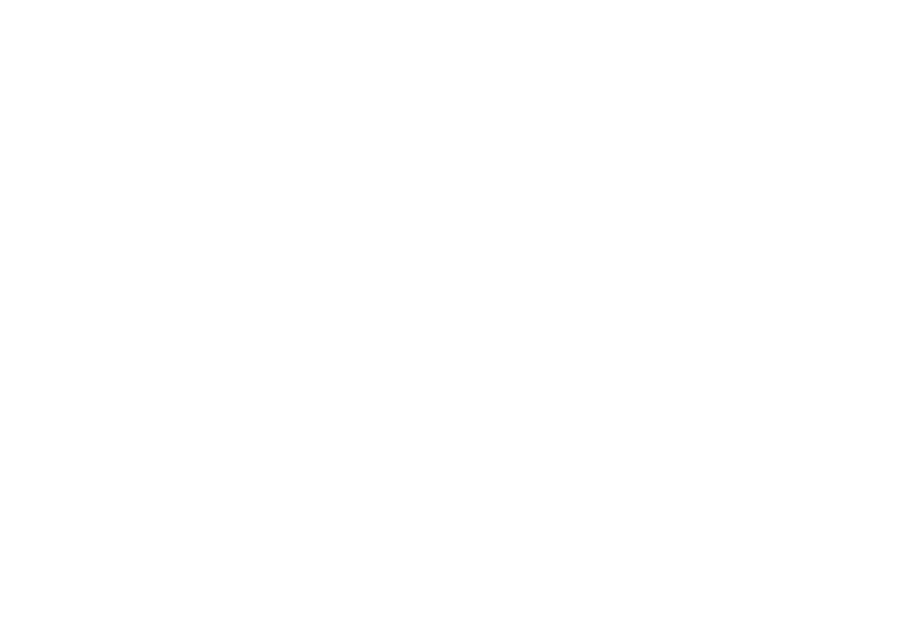
Он родом из калмыцкой деревни Яшкуль. Яша щеголял по улицам с надписью: «Астрахань — Берлин», так и дошёл до Берлина с этой табличкой.
Верблюдица Тамара «служила» при полевой кухне и отвечала за её передвижение вслед за наступающими красноармейцами. Военные повара научили Тамару громко реветь, созывая таким образом солдат на обед.
А верблюд Кузнечик умело сворачивался калачиком при обстрелах. Как и люди, животные на войне также изо всех сил старались выжить.
Кузнечик во время вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов находил яму или воронку от снаряда. Он укладывался в неё, скручиваясь калачиком. Так верблюд прятался от осколков.
Животное прошло весьма длинный боевой путь: от донских степей до берегов Балтики. Именно там в 1945 году Кузнечик погиб.
Хотя по другой версии ему удалось дойти до Берлина. Солдаты привели его к взятому Рейхстагу, и Кузнечик якобы даже плюнул на стену фашистской цитадели.
Ещё один верблюд Володя, мобилизованный у хозяина Николая Декина, также отличился в боях.
Эти истории ещё раз доказывают неоценимый вклад животных в Победу.
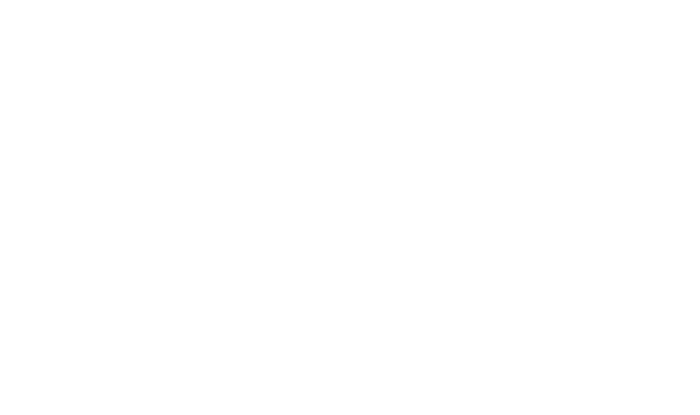
Ветерана звали Виктор Александрович Веревченко. Он из Ростова-на-Дону. Много лет назад он писал про свои боевые воспоминания детскому центру в Астрахани, поэтому письма до сих пор там сохранились.
Ветеран тщательно описал всю хронику передвижения в те роковые дни.
Не забыл он упомянуть и про верблюдов:
«…в здании Рейхсканцелярии было много сейфов. Когда их вскрыли, то обнаружили множество фашистских наград, которые наши солдаты бросили на пол. В этой комнате побывал и командир орудийного расчета 902-го полка. Его орудие дотащили от Астрахани до Берлина два верблюда — Мишка и Машка. Старший сержант, посмотрев на валявшиеся под ногами вражеские награды, сорвал шторы и, соорудив «орденские» ленты, нацепил на них вражеские ордена. Эти ленты с наградами он надел на шеи своим верблюдам. Их заметили фотокоры из «Правды» и запечатлели картинку на века».
Автора этих строчек давно нет в живых. А три пожелтевших листочка и фотография в конверте до сих пор хранится в архиве музея «Зал боевой славы» в Астрахани.
Ветераны войны с теплотой вспоминают своих верблюжьих напарников.
Машку и Мишку знают все. А Володя — новый персонаж в этой истории. Николай Декин из Москвы — участник войны также делился своим опытом с местной редакций, как и Виктор Веревченко.
В своих письмах Николай вспоминал, что, когда приехал уполномоченный из райвоенкомата и объявил об очередной мобилизации, мужчины стали прощаться с жёнами.
А оказывается, забирали верблюдов. Так и отдал он своего Володю. Позже Николай увидел фотографию верного друга в книге Василия Скоробогатова «Генерал Берзарин. Первый комендант Берлина».
Вырезка из писем:
«Я дергал вожжами, бил их кнутом, они бросались из стороны в сторону. Раньше меня предупреждали, что животных бить нельзя — обидятся и не тронутся с места. Но не выдержал и стал кричать: «Мама бы вас взяла, холера бы забрала, ну, вперёд, проклятые». Но «проклятые» не трогались с места. Тогда я решил взять их лаской: «Володя, Тимурчик, вперёд! Ну, пошли, дорогие!». Верблюды недоверчиво смотрели на меня большими чёрными, умными глазами, которые как бы говорили: «Знаем мы ваш подхалимаж и видим, что лобогрейка не отцеплена. Позже они, набравшись сил, рванули, что есть мочи», — писал Николай Декин из Москвы.
Есть ещё несколько строчек из письма Декина:
«К концу жатвы приехал в бригаду уполномоченный из Райвоенкомата и объявил об очередной мобилизации. Мы думали, что заберут последних мужиков из бригады, но оказалось… мобилизовывались верблюды! Так мы простились с нашими членами экипажа — Володей и Тимуром. А недавно я получил в подарок от писателя Скоробогатова книгу, в которой и увидел фотографию верблюда. Был ли этот верблюд Володей — тайна века. Но ясно одно: верблюды астраханской области в любую погоду — в дождь, грязь, пургу, метель тянули орудия и застревали в грязи танка. Им не требовалась ни одежда, ни бензин, они — как солдаты — тянули тяжелую лямку войны, презренно смотрели на брошенных «тигров» и «пантер», автомобили, в которых в сильные морозы враги не могли завести моторы. Они лишь с тоскою вспоминали родные астраханские степи и любимое лакомство — верблюжью колючку» …
Пусть о них не пишут в учебниках истории, но мы должны помнить, что победа ковалась не только человеческими, но и верблюжьими усилиями.
Они, как и солдаты, жертвовали всем ради того, чтобы приблизить долгожданный май 1945-го.
И пусть память о них живет так же долго, как и легенды об их подвигах, передаваемые из уст в уста.
Наверняка вам знакомы шутливые фразы вроде «письма, они же как почтовые голуби, должны достигать адресата», и им подобные. Сам по себе термин «почтовый голубь» может нас мысленно отнести к какой-то «дремучей» эпохе. Если не совсем к Средневековью, то к дореволюционным временам Николаев и Александров!
Если вспомнить XX век, такие крупные боевые конфликты как Первую, и, особенно, Вторую Мировые войны? Зачем, казалось бы, пользоваться таким анахронизмом? Ведь радиосвязь, к тому моменту, уже несколько десятилетий как была изобретена и активно использовалась и военными, и гражданскими.
Тем не менее, в прошлом веке, помощь от «символов мира» для боевых конфликтов очень даже использовалась. Причём не обязательно только лишь почтовая!
Не только для бытовых нужд, но и на уровне целых государств в реальность входит понятие «аэрофотосъёмка»: ведь теперь можно делать масштабный фотоснимок своей территории, или территории противника, чтобы потом, эту информацию использовать не только в мирное, но и в военное время.
Первые аэрофотографии были сделаны в 1858 году воздухоплавателем Надаром и в 1860 году Джеймсом Уоллесом Блейком.
В связи с дальнейшим развитием фототехники некоторые исследователи стали размещать фотокамеры в беспилотных летающих аппаратах, на воздушных змеях, и даже при помощи ракет, оборудованных камерой и парашютом.
А что, если «к делу» привлечь голубей?
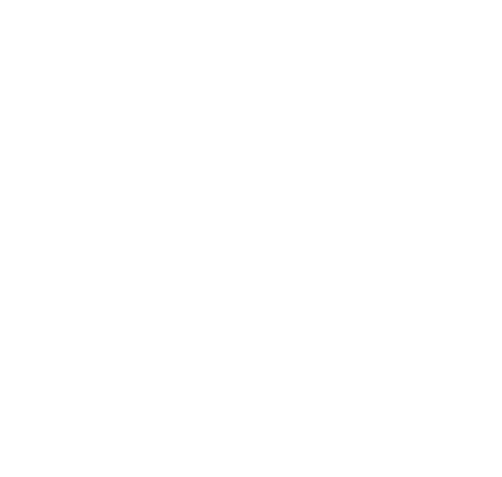
Источник фото: Julius Neubronner (1852–1932). Richard Wachsmuth: Denkschrift der Ersten Internationalen Luftschiffahrts-Ausstellung (Ila) zu Frankfurt a.M. 1909. Appeared 1910
В итоге, в декабре 1908 года им был получен патент в немецком патентном ведомстве, позднее устройство было запатентовано в Австрии, Франции и Великобритании.
Само изобретение Нойброннера казалось перспективным в условиях зарождавшейся Первой Мировой войны, как менее громоздкое (а, значит, и более устойчивое от врага).
Ещё, немаловажным фактором было то, что голуби, в целом, относительно равнодушны к взрывам, но во время боя голубятню, возможно, придётся передвинуть, и птичкам может понадобиться некоторое время, чтобы найти её новое местоположение.
Оказалось, что при должной дрессировке это не было проблемой. Молодых птичек было возможно натренировать так, чтобы они возвращались в голубятню даже после того, как её перевозили в другое место.
Такие наработки Нойброннера активно использовались в годы Первой Мировой войны.
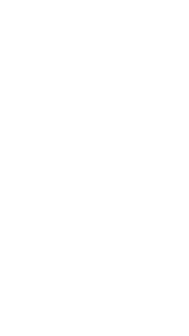
Источник фото: Hans-Dieter Thein; shows toy soldier 593 produced by Hausser, Germany, 1935-1940 г.
Есть косвенные подтверждения тому, что немецкой стороной такая технология очень даже применялась.
В 1942 году Красной армией были обнаружены брошенные немецкие грузовики с голубиными фотокамерами, которые могли делать снимки с пятиминутными интервалами, а также собаки, обученные для переноски голубей в корзинах.
Также, известно, что в Третьем Рейхе, в 30-е — 40-е годы XX века выпускалась игрушка, изображавшая немецкого солдата с голубем, несущим фотоаппарат.
Фигурка представляла собой солдата в момент выпуска голубя, который несёт малогабаритную камеру. Рядом с ним располагалась собака с клеткой для переноски голубей.
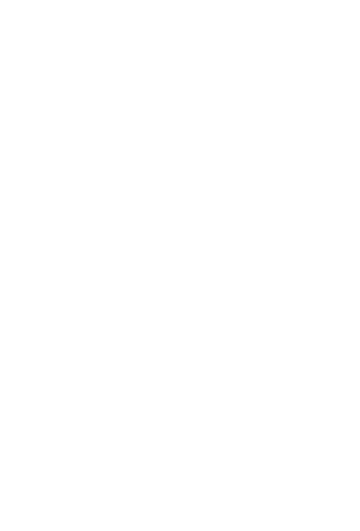
Интересно, что на территории нынешнего 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России (известного также как питомник «Красная звезда»), в предвоенные и военные годы существовал учебный центр, в котором готовили «голубей-подрывников».
Принцип действия был прост. На голубя крепился зажигательный снаряд нажимного действия. Птица была надрессирована садиться на топливные ёмкости вражеских боевых самолётов, а также на авиабомбы, подвешенные к крыльям летательных аппаратов.
При помощи специального механизма, голуби выпускались из закреплённой кассеты, куда помещалось двадцать четыре птицы.
Когда голубь садился на объект, снаряд автоматически отстёгивался, после чего срабатывал взрыватель нажимного действия, а птица благополучно возвращалась на базу.
Каким образом голуби отличали советские самолеты или топливозаправщики от немецких?
Оказалось, никак. Птицам было абсолютно всё равно, куда садиться, лишь бы объект напоминал заданные дрессировщиками цели.
Секрет «голубиных бомб» заключался именно в том, чтобы выпустить птиц точно вблизи объекта противника.
С 1940 по 1944 год, в США, учёным Берресом Фредериком Скиннерсом разрабатывалась программа «Голубь», являвшаяся частью федеральной программы боевого применения животных.
Идея заключалась в использовании голубей как живого устройства наведения управляемой авиабомбы.
В процессе подготовки, голубя одевали в «жакет» — подобие смирительной рубашки — и подвешивали горизонтально перед матовым экраном, на котором отображалась точка. Когда голубь ударял по ней клювом, перед ним открывалась кормушка с лакомством.
На следующем этапе, точку начинали двигать, а потом заменяли её движущимся изображением цели — например, корабля.
На клюв птицы надевали металлический наконечник.
Электрочувствительная система считывала места клевков и передавала сигнал на сервоприводы, изменявшие положение аэродинамических элементов.
Но, оказалось, что точность клевков всё-таки была совсем не идеальной. Тогда Скиннер придумал подкрепить идею «принципом большинства».
Вместо одного голубя стали использовать троих, а сигнал к сервоприводам уходил лишь в том случае, если совпадали «команды», как минимум двоих «пернатых наводчиков».
Однако, к 1944 году данный проект был закрыт.
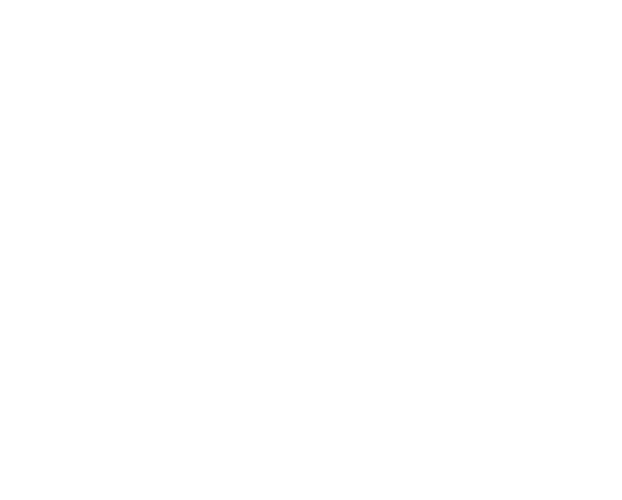
Источник фото: Topwar
На этот раз, инициатива исходила от ВМФ США. Новый проект получил название «Оркон» — это акроним от «Органический контроль».
Упор делали на создание противокорабельных ракет, управляемых голубями.
Как показали испытания, птицы могли управлять ракетой, летящей со скоростью 400 км/ч, и обеспечивать попадание в 55,3% случаев.
Цифра может показаться несолидной, на самом же деле попадание каждой второй ракеты в цель — прекрасный результат.
Но и этот проект был закрыт. К 1953 году, когда разработка «Оркона» была почти завершена, уже начали появляться электронные системы наведения.
Удивительная способность голубей возвращаться издалека домой, к родному гнезду была обнаружена ещё в Античности.
Так, известны были случаи использования голубиной связи в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме. Также есть сведения об использовании этих птичек в доколумбовой Америке инками, майя и ацтеками.
Голубиная связь широко применялась в годы Первой Мировой войны. Казалось бы, дальнейшее развитие проводной, и, особенно радиосвязи во всём мире должно было окончательно вытеснить почтовых голубей уже к началу Второй Мировой?
Однако, произошло это гораздо позже. Дело было, с одной стороны, ещё в малой распространённости средств радиосвязи (особенно, партизанским движением).
С другой стороны, пока ещё не была настолько развита технология шифрования данных и «перехват» врагом радиосигнала был более реальным, нежели перехват почтового голубя!
Во время Второй Мировой войны, свои голубиные станции были в армиях Британской империи, Франции и милитаристской Японии.
«Символов мира» в качестве почтальонов активно использовала и советская сторона.
Известно, что в годы Великой Отечественной, в армии действовали специальные солдаты-голубеводы, в обязанности которых входила тренировка почтовых голубей для разведгрупп.
Интересно, что в страшные для Москвы дни 1941 года, в столице действовала 21 станция голубиной связи.
На этих станциях было около 1000 голубей.
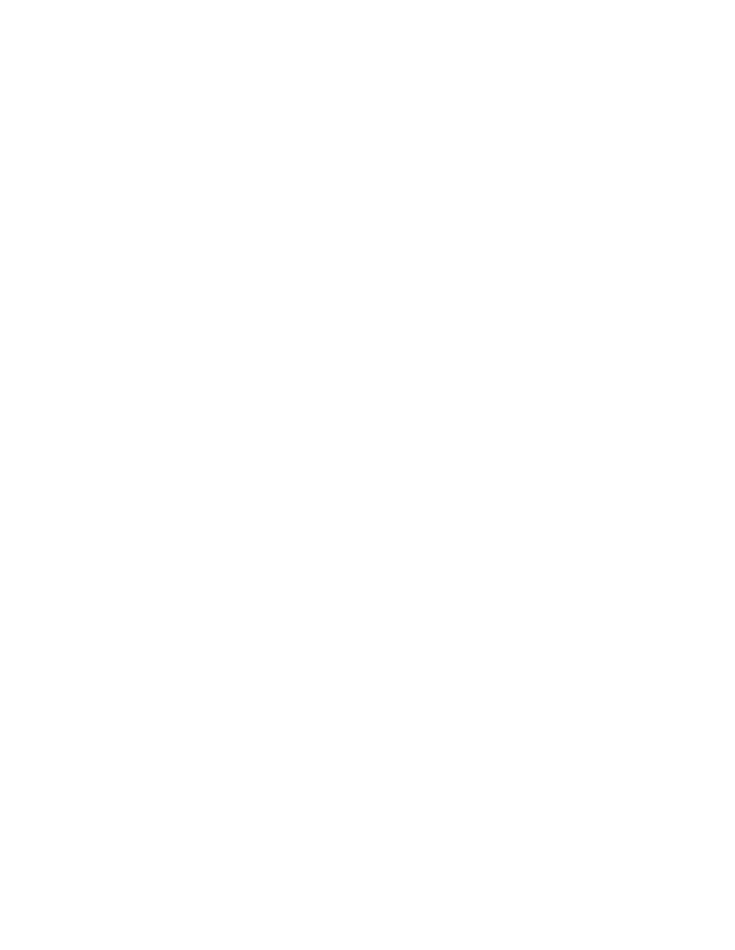
Источник фото: Живой журнал
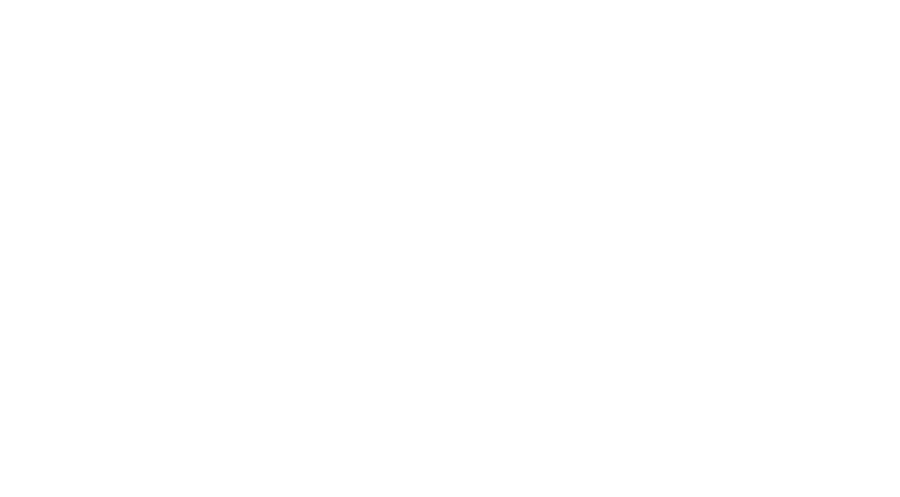
Источник фото: Библиотека на Кронверкском
Однако, даже такие животные служили людям в военное время.
Ещё с самого начала Второй Мировой войны, была выявлена интересная особенность обыкновенных мышей: они могут проникать в отверстие вдвое меньше их собственного тела. А технологические отверстия в любой технике есть практически всегда.
Основываясь на этом принципе, в Смоленском университете разработали специальную программу по обучению мышей проживанию в танке (а уж пожирать электропроводку они отлично умели сами).
Результат отлично иллюстрирует немецкий циркуляр, разосланный частям Панцерваффе осенью 1941 года: «Танковые дивизии на Восточном фронте, которые разместили свою технику в укрытиях в тёплых местах на длительное время, по получении приказа на выдвижение обнаружили, что только 30% их техники оказалось боеспособной».
Грызуны и зайцеобразные оказались необходимы и в качестве средства биологического оружия. Во время Сталинградской битвы, микробиологи частично эвакуированного Ростовского противочумного института представили доклад, который очень заинтересовал военных. Дело в том, что из-за быстрого наступления немцев так и не удалось собрать урожай зерновых, что привело к резкому увеличению численности грызунов и зайцеобразных (на последних, кстати, солдаты непременно будут охотиться) как раз в излучинах Волги и Дона.
Именно эти места являются природным «очагом» туляремии, или так называемой «мышиной холеры». Заболевание, на тот момент, было мало изучено в Германии, а итальянцы и румыны, также воевавшие в тех краях, вообще им не занимались.
План, предложенный микробиологами был прост: отложить наступление до начала холодов, а за это время провести вакцинацию войск от туляремии и дать грызунам сделать свое дело. И этот план был принят Ставкой.
Микробиологи оказались правы: поздней осенью, в Поволжье действительно разразилась эпидемия туляремии, упоминания о которой встречается во многих немецких мемуарах. Однако, от этого заболевания пострадала и советская сторона.
ЖИВОТНЫЕ-УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ
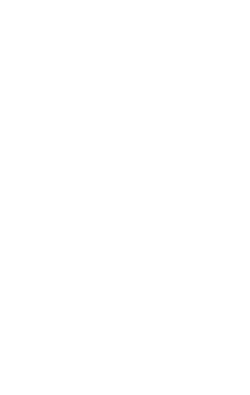
Алексей Никанорович Комаров (1879—1977)
Источник фото: Ярославские спаниели
Они создавали свои масштабные полотна в период с 1941 по 1945 год и вдохновлялись настоящими, непридуманными историями.
Художники брали сюжеты с реальных фронтовых фотографий, чтобы достоверно передать роль животных в боевых условиях.
На данный момент картины находятся в коллекции Государственного Дарвиновского музея в Москве и являются свидетельством не только мастерства талантливых художников, но и самоотверженности, героизма братьев наших меньших.
С детства оба художника проявляли неподдельный интерес к животному миру: Алексей увлеченно лепил фигурки зверей из хлеба и срисовывал иллюстрации из книги «Жизнь животных» Брема, а Константин любил рисовать обитателей зоопарка.
Оба художника получили профильное образование — Комаров окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а Флёров учился на биологическом факультете МГУ, где увлёкся палеонтологией.
Главным в их жизни оставалось искусство, направленное на то, чтобы «заразить зрителей и читателей своей любовью к зверям и птицам нашей родной природы», как писал Алексей Никанорович.
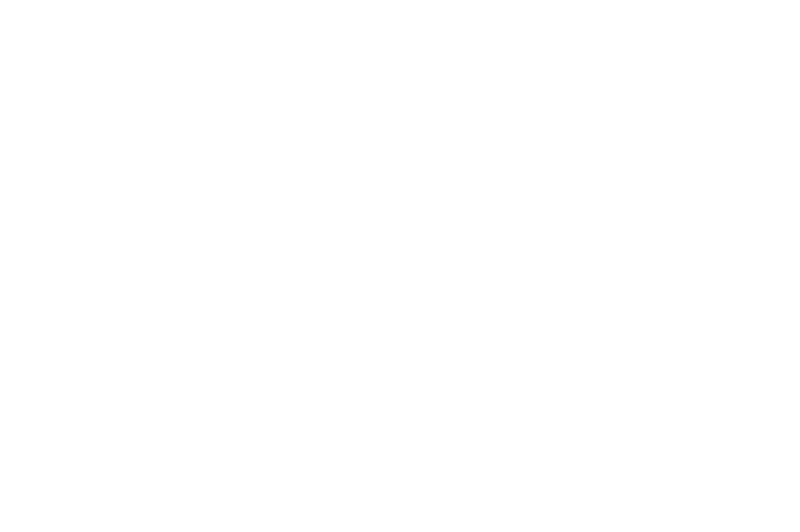
Флёров Константин Константинович (1904—1980) — советский палеонтолог, доктор биологических наук, профессор, художник-анималист
Источник фото: Котс Александр Фёдорович, архив Дарвиновского музея
Картины Комарова и Флёрова выставляли в госпиталях, где они поднимали боевой дух раненых солдат. Для бойцов эти полотна были не просто произведениями искусства, а напоминанием о верных друзьях, которые делили с ними все тяготы войны.
Художники-анималисты сумели отразить в своём творчестве не только любовь к животным, но и уважение к их подвигу во имя общей победы.
Эти картины — дань памяти всем «братьям нашим меньшим», которые внесли свой вклад в защиту Родины наравне с людьми.
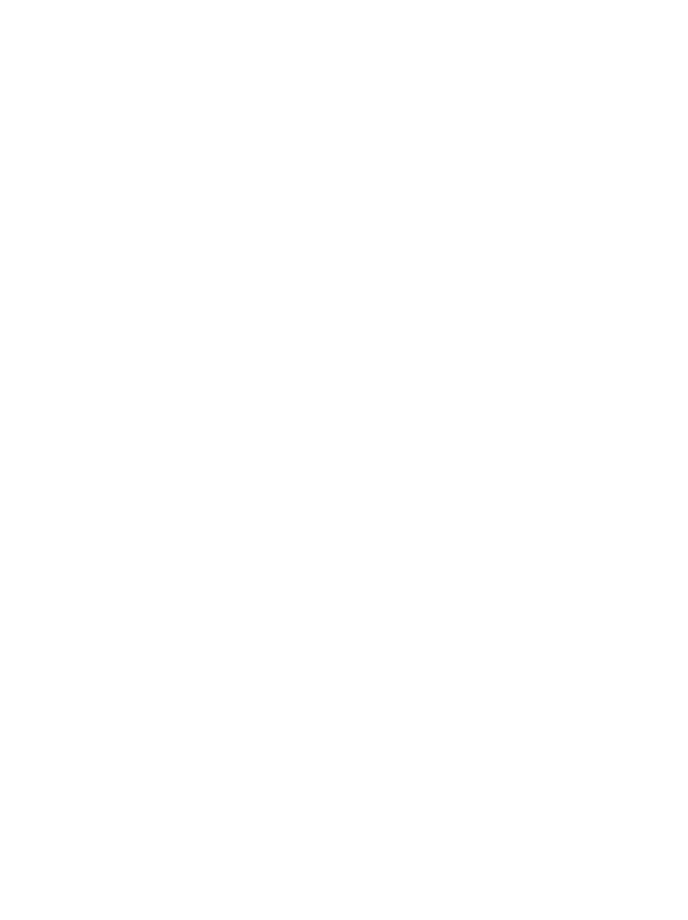
Источник фото: Telegram-канал волонтёра Виктории
Велась эвакуация мирного населения, многие животные потеряли свой дом и хозяев.
Волонтёры из Москвы, рискуя своими жизнями, приехали на место затопления местного приюта «Шанс» в Олешки, чтобы спасти выживших собак.
Вот что рассказывает волонтёр Виктория, которая занимается спасением и пристройством животных из зоны СВО:
«Друзья, мне сейчас очень нужна ваша помощь. Из Херсонской области, из затопленных мест, едут сюда чудом уцелевшие собаки. Я пообещала забрать пятерых, но невыносимо жаль их всех. Невыносимо больно за них. Мне экстренно нужны передержки для них. Сейчас, самое главное — это чтобы им было где жить до пристройства. Этот пост — он про спасение собак. Про спасение собак из места, где они прошли настоящий ад и чудом остались живы. Я не буду выкладывать видео, но скажу так: в первый день хозяйка приюта, откуда к нам с вами приехали семь собак, пыталась спасти, как можно больше. Собаки плыли за лодкой, они сажали новых туда, в итоге лодка утонула. Сама девушка тоже чудом осталась жива. То, что происходит там — это действительно ужасно. И остаться в стороне нельзя. Давайте изменим их жизни, пожалуйста!»
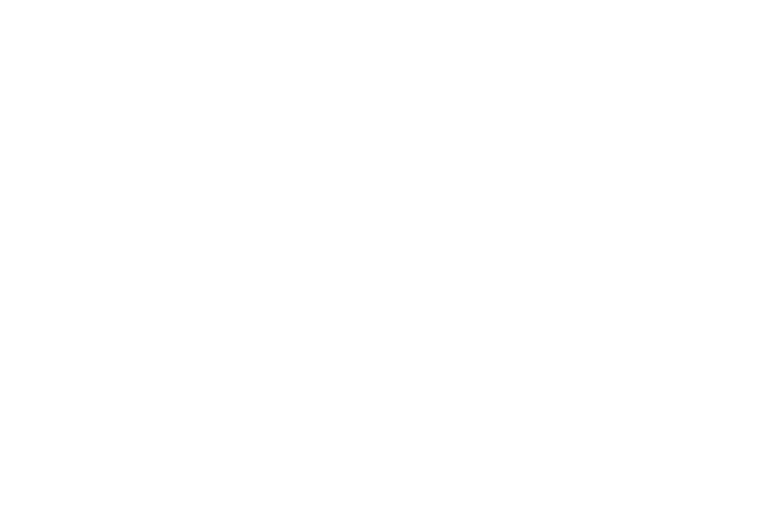
Источник фото: личный архив волонтёра Виктории
Балбес прибился к отряду солдата Эрика и стала его верным спутником.
Пёс отличался бесстрашием, преданностью и озорным нравом, за что и получил свое прозвище. Он неотступно следовал за бойцами во время боев и передышек.
Увидев, как его товарищи-люди вынуждены убегать от преследующих их дронов-камикадзе, Балбес воспринял это как угрозу для жизни своего отряда.
И когда на позиции прилетел очередной вражеский беспилотник, пёс бросился навстречу смертельной опасности. Он сбил дрон с траектории, схватил его зубами и принял на себя всю силу взрыва, заслонив собой бойцов.
Балбес погиб героически и ценой своей жизни спас ставших ему родными солдат.
История погибшего пса-воина тронула сердца миллионов людей по всей России.
Его преданность и самопожертвование навсегда останутся в памяти людей.
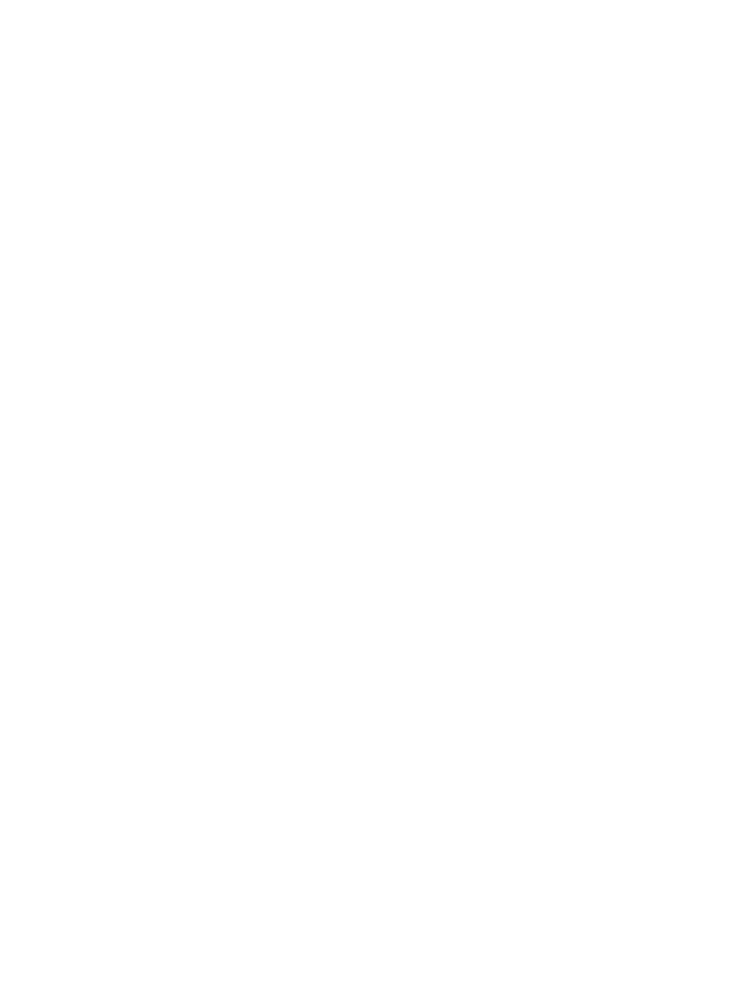
Источник фото: Московский Комсомолец
Помним. Гордимся. Благодарим.
- Надежда Фернандо«Я сильно загорелась этим проектом! Идея как-то сразу сформировалась — нам нужно рассказать о советских животных-героях, которые помогали человеку в тяжёлые годы войны и наравне с ним защищали нашу Родину. Зачастую ценой своей жизни. Эта тема достойна восхищения и осмысления, а четвероногие бойцы того, чтобы о них помнили.»
- Марина Холомина«Мне было интересно принять участие в этом проекте, потому что очень хотелось рассказать о том, как животные становились опорой для людей в непростые годы войны. Считаю очень важным сохранить память об их подвиге в историях и фотографиях тех лет.»
- Иоанн Бакушкин«Прошлое, если смотреть на него правильно, куда больше расскажет о свойствах будущего, чем настоящее. Чтобы понять будущее не нужен техноаутистский жаргон, передовые примочки и прочее в этом духе. Необходимо интересоваться историческими записями, алкать мудрости предков и понимать, что такое эвристика. Проект нацелен научить видеть вклад животных во всю историю человечества на примере Великой Отечественной войны. Ведь, без животных весь наш мир был бы иным. Научившись видеть правильно отдельные факты больших исторических событий мы можем ставить правильные цели и учиться нужному.»
- Андрей Обрядчиков«Будучи экскурсоводом, и очень любя домашних животных, я не мог не заинтересоваться проектом о вкладе зверюшек в нашу историю. Казалось бы, они такие разные, и порой могут выполнять самые обыденные вещи… Но, ведь даже маленький вклад бывает, порой, бесценным. Рассказать об этом людям — и есть моя миссия как соавтора проекта. Хотя… До совершенства всё равно далеко, как до звезды…»
- Екатерина Хрущёва«Они тоже сражались за Родину! Братья наши меньшие, четвероногие герои и просто храбрецы. Почему бы и не посвятить целый проект тем, о ком обычно говорят сквозь? Мы почти как Шерлок Холмс: нет, мы не беремся разгадывать тайны, но информацию про маленьких героев собрали весьма достойную. Приятного просмотра и безграничной любви к пушистикам!»